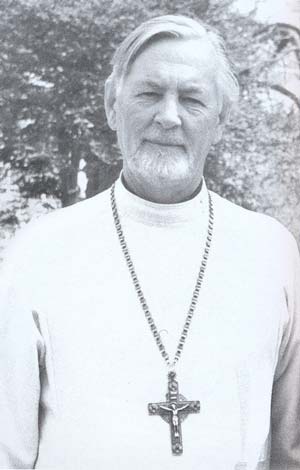Памяти Александра Исаевича Солженицына.
Если всякое слово Солженицына сразу же становится мировым событием, то что же и говорить об «Архипелаге» и об обеспеченном ему всемирном резонансе? Не стоит гадать и о том, каково будет значение этого нового взрыва во всевозможных современных «конъюнктурах».
Конечно, можно и нужно еще раз преклониться перед этой неслыханной, небывалой, беспрецедентной борьбой одинокого писателя с властью, столь же беспрецедентной в своей бесчеловечности и лжи; можно и нужно высказать восхищение этим мужеством, благодарность за этот подвиг, острую тревогу за личную судьбу человека, несущего на своих плечах такое непомерное, действительно страшное бремя.
Но когда все это сделано и сказано, остается то, возможно – самое главное, чему грозит быть заглушенным грохотом этого взрыва, «злободневной» его радиацией. Поэтому хотя бы намекнуть на это – кратко, отрывочно, предварительно – мне и хочется сразу же после того, как я прочел и закрыл сказочную книгу.
Я сразу же себе сказал: «Сказочная книга». А теперь начинаю думать, почему именно это странное словосочетание первым пришло в голову, ударило в сердце. Страшная, трагическая, потрясающая – да, но почему сказочная?
Открываю снова книгу и читаю подзаголовок: «Опыт художественного исследования». Конечно, не случайно назвал ее так Солженицын. Он как бы настаивает: нет, это не просто исследование, не еще один, пускай самый полный, самый замечательный, документ все растущей «лагерной литературы». Это художественное произведение. И именно с этим согласилось, на это ответило мое сознание. И теперь исповедать это согласие во всеуслышание мне кажется необходимым потому, что уже почти ходячим мнением, своеобразным «алиби» становится вокруг нас противопоставление Солженицына-борца Солженицыну-писателю.
На это, пока еще шепотом и с почтительным признанием «огромного значения» Солженицына распространяемое, литературное его развенчание можно было бы не обращать внимания, если бы не было оно, по моему глубочайшему убеждению, губительным – не для Солженицына (он сам свой высший суд), а для нас самих, для русской, да и не только русской, литературы; если бы не было оно грозным симптомом убыли в нас внутреннего слуха и восприятия, способности расслышать и распознать собственное сердцебиение.
Как восхищенно-восприимчивы стали мы ко всему маленькому и второстепенному, как убедительно находим «свой голос» и «свою манеру» у каждого, как умело и научно устанавливаем его литературную родословную. Но когда падает с неба метеорит без всякой родословной, кроме разве той, литературоведам неведомой, когда еще раз – на наших глазах – совершается чудо, мы оказываемся неспособными распознать его и – в первичном, глубинном смысле этих слов – удивиться ему и им восхититься.
И это измельчание слуха, это бескрылое «александрийство» не могут не удручать в страшный час человеческой судьбы, когда все в ней зависит от того, воскреснет ли СЛОВО в своей первозданной целостности и целительной силе или же до конца превратится, как уже и превращается повсюду в мире, в орудие дьявола, который «когда говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).
Как доказать, что «Архипелаг» – это еще одна вершина в творчестве Солженицына-писателя, еще один взлет в русской и, значит, мировой литературе? «Имеяй уши слышать, да слышит». И вот я наугад, как открылось, открываю книгу и читаю:
«Традиционный арест – это еще потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничанье в квартире жесткой чужой подавляющей силы. Это – взламывание, вскрывание, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, вытряхивание, рассыпание, разрывание – и нахламление горами на полу, и хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска! При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребенком. Юристы выбросили ребенка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постели, и разбинтовывают повязки. И ничто во время обыска не может быть признано нелепым!
У любителя старины Четвертухина захватили “столько-то листов царских указов” – именно, указ об окончании войны с Наполеоном, об образовании Священного Союза и молебствие против холеры 1830-го года. У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изъяли драгоценные тибетские древние рукописи (и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет!). При аресте востоковеда Невского забрали тангутские рукописи (а через 25 лет за расшифровку их покойному посмертно присуждена ленинская премия). У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили изобретённую им письменность и букварь – и остался народец без письменности».
Читаю и спрашиваю себя: нужно ли еще доказывать? Неужели не поражает сразу этот, ни на чей другой не похожий, действительно и до конца свой, язык, этот удивительный сказ, словно нарочито рожденный для этой книги, всю ее претворяющий в одну горестную, но и прекрасную поэму, где все связано воедино и одновременно так щедро открыто, как сердце сердцу, душа душе? И кто же еще так пишет, так творит сейчас? Кто властен так воплотить, так явить, так причастить? Где еще такой полной, преизбыточествующей, свободной жизнью живет наш русский язык, где еще у него такая царственная свобода, такое полноводье ритмов, напевов, словообразований? Где другой стрелок, так безошибочно, без единого промаха, бьющий в цель на протяжении шестисот страниц?
А эти удивительные маленькие рассказы, то и дело вырастающие, как колосья, из какого-то неиссякаемого чернозема! Чего стоит хотя бы тот, где на четырех страницах рассказано о втолкнутом в камеру пареньке:
«”Да кто ж вы такой?” Новичок виновато улыбнулся: “Император. Михаил”… “Завтра, завтра, спать!” – строго сказал Сузи». А эти не менее удивительные «концовки», режущие, как бритва, навсегда, без остатка, без какой бы то ни было возможности когда-нибудь, в будущем, как-то заново «пересмотреть дело»: «Так восходило солнце нашей свободы. Таким упитанным шалуном рос наш октябрёнок-Закон. Мы теперь совсем не помним этого».
А это воссоздание, воскрешение навеки каждой минуты, каждого солнечного луча на стене камеры, каждого лица…
«Смелее других старухи: их уже не испортишь, они и в Бога веруют, – и отломив ломоть хлеба от скудного кирпичика, они бросают нам… Старушечий хлеб от слабой руки не долетит, упадет наземь, пачка крутнет по воздуху под самую нашу гущу, а конвой тут же заклацает затворами – на старуху, на доброту, на хлеб: “Эй, проходи, бабка!” И хлеб святой, преломленный, остается лежать в пыли, пока нас не угонят. <…> Это было двадцать минут почти свободы: густел вечер, зажигались первые звёзды, красные и зеленые огни на путях, звучала музыка. Продолжается жизнь без нас – и даже уже не обидно».
Еще раз: «имеяй уши слышать, да слышит». А по-моему, такого взлета, такой удачи, такой полноты и победы давно уже не было дано нам в нашей литературе.
Но, может быть, скажут иные, на эту страшную тему нужно было только «исследование», ибо какое же тут, в аду, возможно и зачем понадобилось «художество»? А других покоробит само это словосочетание – «художественное исследование»; так приучены они к тому, что нельзя мешать «жанры». Если «художественное», то, значит, не «исследование», а если «исследование», то при чем тут «художественное»? Но Солженицын, сказав «художественное», настаивает: «Все было именно так», утверждает: «Исследование». И остается нам, значит, только постараться понять, почему это свидетельство об аде, созданном людьми, подобного которому не было еще на земле, почему именно это свидетельство – неслыханное о неслыханном, невозможное о невозможном – потребовало от Солженицына ломки наших привычных канонов и жанров, почему уверенной рукой начертал он на заглавном листе: «художественное исследование».
Все знают, конечно, что книга Солженицына – не первое свидетельство о жутком архипелаге. Уже не один мореплаватель открывал эту ледяную страну, описывал ее берега, наносил на карту имена, цифры, даты. И в основном все то, о чем пишет Солженицын, уже известно. Уже народилась и растет об архипелаге специальная наука, уже даются за полезные вклады в нее магистрские и докторские степени и учреждаются для успешного ее развития научно-исследовательские институты. И все тут действительно научно, честно и объективно – и цифры, и факты, и выводы.
Но вот в том-то и все дело, что, сколь бы правдиво и объективно ни было «исследование», любое исследование, никогда не может оно стать самим явлением правды, ибо не имеет оно в себе силы воплощать. В том-то и все дело, что дар претворения и воплощения дан только художнику, в этом его призвание, назначение и служение, и потому только он может так спокойно и твердо сказать: «Все было именно так». Только он может, а потому и должен, не просто снабдить нас сведениями и их ученым анализом, а причастить нас уже навсегда, навеки опыту Архипелага, этого последнего по времени имени и явления нашей человеческой судьбы, нашего с вами мира. И вот сделано. Завершено, потому что претворено, исполнено, потому что воплощено, – исследование. Но в этом претворении и воплощении, наполненное плотью и кровью, новой жизнью и новой силой зажило «художество»…
Как это сказано? «Талант может все, гений не может не…» Солженицын не мог не написать этой книги и не мог не написать ее так, как он написал ее. До сих пор все в его жизни – по закону гения, по закону именно неизбывности, неизбежности, «невозможности не…». Мы не знаем, нам не дано знать, как из миллионов людей избирает Бог одного и возлагает на него страшную и прекрасную судьбу: принять на себя, прожить в себе и в своем творчестве судьбу своего народа, своего мира, все понять, все воплотить, все явить, но и заплатить за это полной мерой гонения и ненависти и – что еще хуже, еще страшнее – непонимания слепых и глухих, маленьких, суетливых, цепко держащихся за своих нищих идолов.
На первой странице этой книги Солженицын пишет: «Мне ничего не остается, как немедленно публиковать ее». Но эти слова можно было поставить эпиграфом ко всей его жизни и ко всему его творчеству. Всегда, все время – «ему ничего не остается», как быть тем, кем он – по воле и избранию Бога – не может не быть.
Как мало, как страшно мало воздуха в этом нашем «современном» мире. Куда ни глянь, куда ни обратись, отовсюду наползает на нас маленькое, низенькое, узенькое, душное. От поработителей и от освободителей одинаково, точно от одного рабства неудержимо стремится человек к другому рабству, из одной безвоздушной камеры в другую. Нет, книга эта не только о России, о большевизме и его жертвах, она о всех нас, она о нашем мире, о нашем человечестве.
Страшно сказать, но духовно контуры зловещего Архипелага начинают все больше совпадать со знакомым нам очертанием материков на голубом глобусе мироздания. И вот этот взрыв, этот напор, эта лавина воздуха, правды, любви и свободы! Дано нам светлое и доброе мерило, чтобы мы увидели и поняли не только, что «все было именно так», но и как оно есть в нас самих и вокруг нас. Еще раз из страшной книги – о зле и гибели – свет и надежда. «Имеяй уши слышать, да слышит».
Вестник РСХД, № 108-109-110. Париж, 1973. С. 169–173.