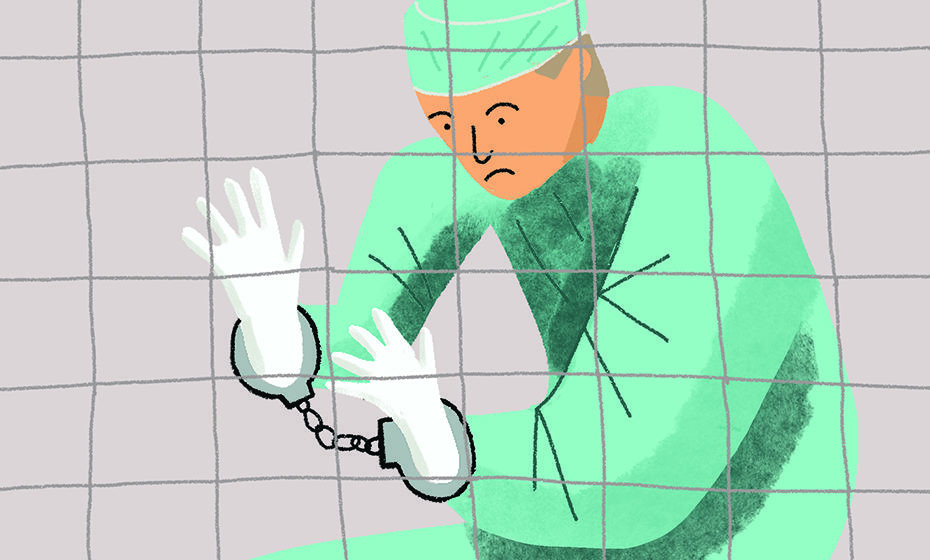Слово против слова. История родственников умершего пациента, которые судятся с врачом

После публикации монолога врача Дениса Ярыгина, которого судят по обвинению в причинении смерти пациенту и который уверен, что в его смерти не виноват, в Русфонд обратилась дочь того самого умершего пациента. Ирина Могелюк рассказала свою версию событий: как семья пыталась спасти отца, почему обратилась в Следственный комитет РФ и чего они хотят добиться в суде. Русфонд публикует ее монолог, а также комментарии к ситуации юриста и специалиста по коммуникации между врачом и пациентом.
В декабре 2016 года 70-летний Евгений С. попал в Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА с диагнозом хронический лимфолейкоз, последняя стадия. Консилиум назначил ему химиотерапию. После двух курсов в феврале 2017 года пациент уехал на консультацию в Израиль. В этом же месяце вернулся в Кировский НИИ гематологии. В марте пациенту стало хуже. Он снова улетел в Израиль, где вскоре скончался.
Дочери покойного обратились в СК с просьбой расследовать причины смерти. В августе 2018 лечащему врачу Денису Ярыгину предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 238 УК РФ), предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы. С декабря 2018 года идет судебное разбирательство.
Думали, что ерунда
– Когда папа попал в больницу, мы думали, это ерунда: просто слабость, просто нужно поднять гемоглобин. Ведь с его диагнозом – хронический лимфолейкоз – живут десятки лет, успокоил нас лечащий врач.
Я предлагала отцу поехать в Израиль. В 2016 году сначала у мамы, потом у сестры обнаружили рак, они там лечились в одной клинике. Обе сейчас в стойкой ремиссии. А папа считал, что ему повезло: попал в НИИ гематологии, бесплатно получит высокотехнологичную помощь, да еще его лечащим врачом будет сын старого делового партнера.
Мы не знали, что отцу сразу начали химиотерапию. Его лечили, врачи говорили, что есть улучшения. Но папа ослаб. Я уговорила его слетать в Израиль только на обследование. Сначала врачи были не против. Но перед выпиской начали говорить, что лететь нельзя: якобы может подняться давление. Мы ничего не поняли. Они заставили папу под диктовку написать отказ от лечения в обмен на выписку из истории болезни.
В Израиле папу обследовали, назначили новые лекарства и подобрали антибиотик: у него ведь упал иммунитет, одолевали инфекции. Папе стало лучше. Вернувшись домой, он каждый день гулял, пока ждал места в стационаре. Израильская онкогематолог сказала, что химиотерапия не помогла ему, а, возможно, даже вызвала опасное состояние – апластическую анемию. Врач рекомендовала стабилизировать папу и сделать трансплантацию костного мозга – единственное, что может его спасти.
В Израиле это очень дорого, мы надеялись, что это возможно в России. Мы обсудили с лечащим врачом такую возможность. Этим разговором он ввел нас в заблуждение, ведь оказалось, что в России не делают трансплантацию после 60 лет.
В России нет запрета на трансплантацию костного мозга людям старше 60 лет. Врачи принимают решение по совокупности факторов и исходя из прогнозов. Но пожилой возраст считается одним из факторов риска. В клинических рекомендациях по лечению пациентов с хроническим лимфолейкозом из группы высокого риска одним из условий трансплантации указан более молодой возраст пациента. То есть на практике пожилым людям обычно не проводят трансплантацию костного мозга.
Смерть в Израиле
– В марте лечащий врач папы предложил встретиться на нейтральной территории. Мы с сестрой удивились, но встретились в моей машине и записали разговор. Сначала врач сказал, что все хорошо. А потом начал заумными словами говорить про какие-то клетки. Я сама врач, но ничего не поняла. Он пояснил, что от нас требуется согласие на введение препарата, подавляющего иммунитет: только так можно остановить аутоиммунную анемию у папы.
Мы говорим: «Давайте посоветуемся с израильским врачом в воскресенье, завтра в Израиле шабат». – «Нет, согласие нужно завтра». Мы почитали про лекарство, узнали, что оно угнетает иммунитет и не подходит по показаниям. Решили отказаться. Врач как узнал, так даже не спустился к входу в НИИ, чтобы встретить сестру и провести на врачебную комиссию. Врачи давили на сестру: «Раз отказываетесь от лечения – забирайте отца прямо сейчас». А когда мы пришли в понедельник, чтобы увезти в Израиль, – наоборот, говорили, что о выписке не может быть речи. Снова предложили написать отказ от лечения в обмен на выписку из истории болезни.
Через сутки папа уже был в израильской больнице, а через пять дней его не стало. Но вовсе не от аутоиммунной анемии, которую собирались лечить в кировском НИИ, а от септического шока: в израильской клинике сказали, что организм был поражен синегнойной палочкой, а иммунитет на нуле.
Вернувшись в Россию, мы пришли в НИИ за медицинскими документами для морга. Я стояла у стены в коридоре – в капюшоне, вся опухшая от слез и бессонных ночей. Ярыгин увидел меня и спросил: «Ну что, вас приняли на Менделеева?» В смысле – будет ли вскрытие трупа в морге. Я была в шоке. Я ждала, что он извинится перед нами. Даже если он считает, что все сделал правильно, лечащий врач должен выразить соболезнования. Я ему ничего не ответила. Он тоже помолчал и ушел. Позже мы обратились в СК с просьбой расследовать причины смерти.
Всех так лечат
– Местная экспертиза признала, что врачи все сделали правильно. Но она не учла многих документов и позже была признана недопустимым доказательством. Мы настояли еще на одной экспертизе в другом регионе, чтобы исключить служебную зависимость. Ее провели новосибирские эксперты Минобороны.
По результатам второй экспертизы мне стало ясно, что лечение было неверным. Такими препаратами в принципе можно лечить хронический лимфолейкоз. Но если бы врачи учли состояние отца, возраст и все противопоказания, элементарно следуя инструкции препарата, если бы провели все необходимые исследования, то не назначили бы такую терапию. Тем более – в увеличенной дозировке.
Когда на суде мы просили врачей объяснить основания для таких назначений, они сказали, что всех так лечат и инструкциям следовать не обязательно. Но это же неправильно. Именно поэтому люди у них умирают, а не вылечиваются. Вот моей маме, как всем, сразу предложили резать желудок. А в Израиле провели исследования и подобрали ей препараты. Операции удалось избежать.
Я не хочу сказать, что российская медицина плохая. Я понимаю, что многое зависит от человека. Сначала мы думали, что виноват только лечащий врач. Когда выяснилось, что решения принимались на консилиумах, стало ясно, что должностные лица несут, возможно, большую ответственность. Мы попросили суд переквалифицировать обвинение – по той же статье, но совершенное группой лиц. Вряд ли суд удовлетворит нашу просьбу, но мы пойдем дальше.
Я считаю, наш случай – проявление общего бардака в НИИ гематологии, который творится там с документами, в подходе к лечению и обследованиям. Мне хочется, чтобы врачи стремились вылечить пациентов, а не освоить бюджет на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор НИУ ВШЭ:
– Законодательство и практика в этой сфере новые. Требуется время, чтобы система сложилась и отточилась. Но дел не слишком много, развитие происходит медленно. Люди, правоохранители и судьи пока не понимают границ и пределов врачебных ошибок и перспектив их обжалования. Медицинская корпорация жестко стоит за своих, тоже не понимая допустимых пределов этого стояния. Да, в работе любого врача случаются смерти. Но отговорки типа «доктор устал, доктор перегружен, и ему мало платят» работать не должны. Важно научиться различать причинно-следственную связь. Для этого нужна независимая экспертиза, с которой у нас в целом огромная беда – это понимают даже в Верховном суде. А с медицинской экспертизой особая сложность. Мы, например, верим авиационным экспертам, а врачебным – нет. Потому что в авиации созданы специальные независимые экспертные институции, а в медицинском профессиональном сообществе «честь мундира» выше ценности человеческой жизни.
При этом совершенно недопустимо спускать сверху плановые показатели на количество возбужденных уголовных медицинских дел, как это сделал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Я считаю это очень опасной кампанейщиной.
Анна Сонькина-Дорман, основатель медицинской школы «СоОбщение», педиатр и специалист паллиативной помощи:
– Это, без сомнений, очень грустная история и для семьи умершего пациента, и для врачей, и для всех нас, читающих их обращения.
Обвинение, которое предъявляют родственники пациента, – это обвинение в халатности, в неправильном лечении. Оставим анализ медицинских действий врачей тем, у кого есть вся необходимая для этого информация и достаточная квалификация. Вместо этого посмотрим на те темы, затронутые в обращении Ирины, которые указывают на проблемы, лежащие не столько в плоскости медицинских действий, сколько во взаимодействии между лечащим врачом и семьей пациента.
Огромная проблема российских врачей, как и врачей во всем мире, – это неумение доносить информацию так, чтобы пациент и/или родственники ее действительно поняли. Причин много: это и привычка к терминологии и наукообразным формулировкам, и шаблонность объяснений, и неадекватное для конкретного пациента количество информации, и высокая скорость ее донесения, и склонность к монологу вместо диалога. Множество исследований показывает, что эффективность врачебных объяснений довольно низка, а пациенты редко по ходу объяснения показывают, что им что-то непонятно.
Зачастую это проблема именно навыка, а не установок. Непонятно объяснять могут и очень знающие, и заботливые, и честные врачи.
Рассуждения Ирины о том, «правильно» ли было выбрано лечение, очень ярко показывают еще одну важную проблему в общении врач – пациент: привычку к назначениям, а не совместным решениям. Практически во всех медицинских ситуациях есть несколько возможностей для дальнейших действий, особенно в онкологии. Выбор из этих возможностей строится на взвешивании потенциальной пользы и рисков каждого варианта для конкретного пациента. Проблема заключается в том, что врачи производят это взвешивание сами и исходят при этом из своих соображений о том, что будет лучше для пациента (или для клиники, увы), не соотносясь с его представлениями, желаниями и ценностями. Врачи могут счесть риск какого-то опасного, но потенциально эффективного лечения оправданным, а пациент и/или его родственники, даже зная все то же самое о рисках и эффектах, могут считать иначе.
Недостаток установки на совместное принятие решений и навыков его реализации есть у всех врачей, даже тех, чьи медицинские решения добросовестны и клинически обоснованы.
Эта часть обращения иллюстрирует одну из самых печальных проблем в общении врачей и пациентов: искусственно созданную и поддерживаемую традицией видимость равнодушия и холодности. Я говорю «видимость», потому что когда читаешь публичное обращение доктора, лечившего отца Ирины, становится очевидно, что ему была не безразлична судьба пациента.
Врачу всегда трудно, когда умирает его пациент и когда страдают его близкие. При этом сожаления своего он никак не выразил, и причина этого очень понятна: наших врачей не только не учат выражать эмпатию и предлагать поддержку, но и, наоборот, настраивают на сокрытие эмоций, ограждение и эмоциональное отстранение. Эта установка не только не реалистична (если искренне сопереживаешь, то не можешь просто перестать сопереживать), но и вредна: врач скрывает свои чувства и удерживает реакции – и в итоге копит их (иногда годами) в себе, разрушая свое здоровье, а пациенту кажется при этом черствым и равнодушным.
Я никогда не забуду сцену, которую наблюдала во время ординатуры в отделении детской онкогематологии: врач поговорила в коридоре с мамой тяжелого пациента, обе со спокойным выражением, сухо, в деловом стиле. Закончили, попрощались. Отвернувшись, чтобы уйти в палату, мама стала сразу плакать. И врач, дойдя до ординаторской, упала на диван в слезах.
Важность для пациентов и их родственников эмпатии и человеческой поддержки со стороны медицинских работников невозможно переоценить. Читая раз за разом обращение Ирины, я все больше думаю о том, что, если бы лечащий врач ее папы в ту последнюю встречу, когда она стояла, закрыв заплаканное лицо капюшоном, выразил свое сожаление, судебного иска могло вообще не быть.
Иллюстрация Нины Кузьминой
Источник: Русфонд