
Я читал интервью и не мог понять, что меня смущает. Вроде бы все логично, трезво, открыто и честно. Беседуют два человека, исповедующие одно мировоззрение. Почему же с самого начала не оставляло чувство какого-то диссонанса? Почему такое впечатление, что брат и сестра во Христе разговаривают на разных языках? Вернее, говорят-то на одном, корректно, доброжелательно, только с каким-то едва уловимым акцентом, словно родные языки у них разные, а тот, на котором они беседуют – язык межнационального общения, аналогично английскому. В чем дело?
Возможно, я ошибаюсь, пусть меня поправят, но, вероятно, чувство диссонанса возникло оттого, что интервьюирующая сторона обращается не просто к одному из тех, кого называют правой рукой Патриарха, но к человеку Церкви – Единой, Святой, Соборной и Апостольской, пространственно-канонически явленной в Московском Патриархате, а интервьюируемый отвечает, идентифицируя себя не с Церковью как Царством Божиим на земле, не с евхаристической общиной, которая лишь странствует здесь, но сама родом из Небесного Отечества, а с РПЦ как юридическим лицом, словно это плоть от плоти нашего общества и государства: организация со своей программой, со своими целями и задачами, находящаяся в оппозиции некоторым влиятельным лицам, в том числе и в «верхах», но отождествляющая себя с обществом своей страны и государством, как системой, организующей это общество и управляющей им.
Отец Всеволод дает интервью как патриот, видящий жизненно-важный интерес Родины в противостоянии глобальной апостасии, опираясь на традиционные ценности, в первую очередь на православную веру. И слава Богу! Однако примечательно, что отвечая на вопросы о событиях в Сирии, вообще за пределами России, комментируя решения государства, он говорит не «наше государство», и тем более, не «руководство нашей страны», а «мы», «наше участие».
Казалось бы, а что в этом плохого, что священник, тем более руководитель организации, призванной осуществлять связи РПЦ с обществом, придерживается патриотических взглядов, болеет душой за свою страну, опасается, как бы набирающая в мире силу управляемая секуляризация сознания не погубила бы его народ, плотью от плоти которого он, и в самом деле, является?
В самом патриотизме, безусловно, ничего плохого. Понимание, что «диктат идеи плюрализма, релятивизма, толерантности в сочетании с нынешними средствами электронного контроля очень быстро приведет и уже приводит к тому, что христианин не сможет строить свои общественно значимые действия на основе своей веры» – это просто трезвый взгляд на реалии наших дней. Проблема не в этом и даже не в какой-то, на мой взгляд, чрезмерной готовности к человеческим жертвам (большей частью, недобровольным).
Проблема именно в этом отождествлении. По моему глубокому убеждению, Церковь, пусть даже и в своей поместной явленности, не может отождествляться ни с каким обществом, ни с каким государством, тем более Русская Церковь, каноническая территория которой простирается далеко за пределы государственных границ Российской Федерации. Как отметил сам отец Всеволод, «наши люди – и в „Правом секторе“, и среди ополченцев Донбасса».
Я не почувствовал в его позиции принципа «равносубъектности диалога Церкви и государства», который, как заметил отец Всеволод, провозгласил Святейший Патриарх Кирилл. Этот принцип неосуществим, если Поместная Церковь себя отождествляет с определенным государством в определенной стране.
Не претендуя ни на что, просто выскажу мнение, что отец Всеволод, лично для себя, в кругу родственников и друзей, как и каждый человек, может себя отождествлять с тем или иным народом, с тем или иным государством, но, говоря от лица Церкви (а именно так воспринимается любое его публичное выступление – хоть в интервью, хоть на конференции, хоть на ток-шоу, хоть в статье – как церковного чиновника, возглавляющего Синодальный Отдел Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества), опять же, по моему личному убеждению, необходимо выдерживать определенную почтительную дистанцию, ни в коем случае не отождествляясь с какой-либо преходящей по своей природе системой – геополитической, этнической, социальной и т.д.
«Мы» – это личное местоимение первого лица. «Наше» – притяжательное местоимение все того же первого лица. И неважно, что оба во множественном числе. Церковь – это «мы», которое включает в себя во главе со Христом самых разных людей из разных стран, отождествляющих себя с разными народами, исповедующих разные политические убеждения.

Протоиерей Игорь Прекуп
Как только лицо, представляющее Церковь, публично под «мы» подразумевает некое сообщество, которое лишь отчасти входит в то «мы», от лица которого оно выступает (ведь не все жители России – православные даже в своей этнически-традиционной части), оно volens nolens разделяет представляемый им субъект на «наших» и «не наших», по несущественному, с экклезиологической точки зрения, признаку.
Я нисколько не сомневаюсь в искренности отца Всеволода, когда он рассуждает о реальности угрозы не только международного терроризма, но и глобализационных процессов и о необходимости любыми средствами превентивно противостоять им, но меня смущает сам дух его рассуждений.
Попробую пояснить на примере высказывания «апостола язычников», характеризующего свой миссионерский принцип так:
«…Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9; 19–22).
Ключевое слово «как». Апостол не становится «одним из», а «как один из». Он не прикидывается лишь внешне, но сопереживает тому, к кому обращается, понимает его и как «один из» собирает на брачный пир всех убогих и хромых по распутиям. Но Апостол не отождествляет себя ни с кем настолько, чтобы в чьих-либо глазах умалить «неотмирность» и универсальность Церкви.
Опасность самоотождествления Церкви с определенным народом и определенной страной, с определенным государством и его определенными геополитическими интересами всегда актуальна, пока она странствует в мире. Церковные деятели, неравнодушные к судьбам Отечества и стремящиеся помочь обществу преобразиться во Христе всегда будут искушаемы князем мира сего, который если не может физически уничтожить Церковь, пытается склонить ее к пагубным для нее компромиссам, некоторые из которых могут показаться совсем безобидными, как, на первый взгляд, несущественные шаги навстречу миру сему, выражающиеся в отождествлении нетождественного, абсолютизации относительного (например, геополитических интересов своей страны) и практической релятивизации абсолютного (например, добродетелей смирения, милосердия, любви).
Сказанное отцом Всеволодом по вопросу ближневосточных событий органично связано с тем, что он говорит в том же интервью о советском наследии. По его мнению, «коллективизм – это своеобразная трактовка соборности, ценности православной», а «жажда справедливости, стремление к тому, чтобы люди не сильно различались по имущественному уровню – это своеобразно понятое христианское стремление к равенству» и т.д.
Если под «своеобразной трактовкой» имеется в виду подмена понятий, то я с ним полностью согласен. Только никак не возьму в толк, зачем столь завуалированно называть явление, которое, наоборот, следует обличать, т.е. делать явным, чтобы люди могли разобраться, где Христово, а где то, что от Велиара?
Да, большевики очень ловко использовали архетипы национального сознания для паразитирования на нем, для взращивания на его основе богоборческого мировоззрения. Так давайте будем называть вещи своими именами: коллективизм и пр. – это всеянные врагом рода человеческого плевелы, которые внешне похожи на культурные злаки, но, по сути – сорняк. Внешняя схожесть, а природа разная. Если Господь советует не исторгать плевелы до жатвы, чтобы не повредить пшеницы (Мф. 13; 29), это относится к людям, которые могут, в отличие от растений, изменяться, но плевелы мировоззренческого порядка надлежит выявлять, искоренять и уничтожать, «не дожидаясь перитонита».
Коллективизм сам по себе может быть и не плох, но, думаю, опасно представлять его как версию соборности. Это не «своеобразная трактовка», а подмена. Согласитесь, хорошая копия шедевра мировой живописи – положительная эстетическая ценность, и в качестве копии эта картина может выставляться, но как только ее вешают вместо оригинала, когда ее выдают за подлинник, совершается тяжкое преступление. Копия, даже очень похожая, может быть «своеобразной трактовкой», пока ею не подменяют оригинал. А именно это и произошло в советскую эпоху, когда святые понятия были заменены несвятыми, пусть и высокими, привлекавшими сердца людей своей похожестью на прежние святые – свое, родное, с той лишь разницей, что тогда честно признавалась замена, а теперь, когда замена выдается за «версию подлинника», происходит подмена.
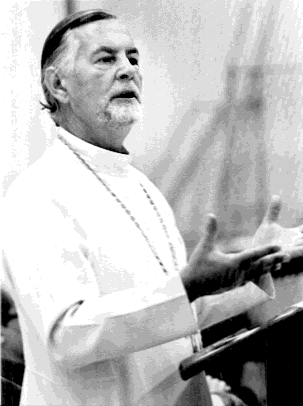
Протопресвитер Александр Шмеман
О принципиальном, генетическом отличии коллективизма от соборности прекрасно писал протопресвитер Александр Шмеман в «Евхаристии», откуда я позволю себе объемную цитату:
«Нет, я убежден, – размышляет отец Александр о слове „единство”, – на человеческом языке слова более Божественного, но потому – в падении своем, „украденности” своей у Бога – и более дьявольского. И это так потому, что тут как первичный смысл, так и подмена, кража касаются не чего-то только связанного с жизнью, а самой жизни, подлинной жизни в ее первосущности. <…> Вера есть причастие единству свыше и в нем – „иного жития, вечного, начало”… Даром же, присутствием, исполнением этого единства свыше, и потому – веры, в „мире сем” является Церковь. По отношению к вере она не „другое”, хотя бы с верой и связанное, но именно исполнение самой веры, то единство, принятие которого, вхождение в которое, причастие к которому есть вера. <…> …Только этим единством свыше, в котором подлинная жизнь ее, и благодать, и новизна этой жизни, отделена Церковь от „мира сего”, только знанием и опытом этого единства познает его как „мир падший”, образ которого проходит (1 Кор. 7; 31) и который обречен смерти. <…> … Она (Церковь – И.П.) всецело иноприродна по отношению к нему, потому что в том и падение его, тем он и „мир сей”, что грехом оторвана жизнь его от единства свыше и в отрыве этом сама стала распадом, тлением, безнадежной порабощенностью смерти и времени, царящим на земле.
Но потому именно тут, именно в постижении иноприродности Церкви по отношению к „миру сему”, сущности ее как единства свыше, раскрывается нам подлинный смысл той подмены, о которой мы сказали выше, что в ней главный и самый страшный соблазн, отравляющий современное церковное сознание, подмены единства свыше – единством снизу».
Вспомним, как Господь остудил негодование «сынов громовых», ссылавшихся, между прочим, на прецедент из Священной истории, сказав им: «не знаете, какого вы духа» (Лк. 9; 55).
Именно тогда Церковь и может послужить миру во благо, когда она четко обозначает границы не только добра и зла, но святого и несвятого, вечного и преходящего, земного и небесного, будучи свободной не только в мире, но и от него, от его настроений, вкусов, стереотипов мышления и поведения, моделей отношений. Только так мы можем послужить не только улучшению мира (в первую очередь, своего земного отечества) во времени, а его спасению в вечности.