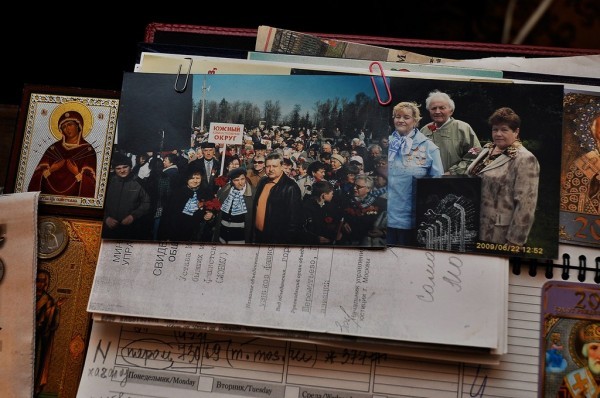«Угнанное» детство – как пятилетняя девочка выжила в немецком концлагере
Жизнь Галины Тихоновны нельзя назвать простой, в ней было все. От фашистского концлагеря на территории Германии, куда ее угнали пятилетней девочкой вместе с матерью, до работы в Кремле с соответствующими такой работе привилегиями. При этом то, что было в годы войны, приходилось скрывать не только от властей, но и от самых близких – даже муж Галины Тихоновны, работавший в Девятом управлении, не мог похвастать тем, что знает о ней все. Только так удалось избежать клейма «враг народа».
Сегодня Галина Тихоновна Бычкова руководит московской организацией бывших узников фашизма «Непокоренные». Она по натуре – лидер. Говорит, что этим качеством во многом обязана своему такому непростому лагерному детству, когда не на кого было опереться, и все – самой. Даже если тебе всего 5 лет.
Лагерь Бреслау
Когда началась война, мне было три года. Первым же постановлением правительства из Москвы эвакуировали всех женщин с детьми. Поэтому мы с мамой, проводив папу на фронт в самые первые дни войны, сразу уехали к родственникам в город Орел.
Мы не рассчитывали, что война затянется, думали, переживем лихолетье там, помогая родным по хозяйству (а там был свой дом, корова). Но в 41-м году немцы захватили Орел, а в 43-м начали отступать, и во время отступления погнали молодых женщин, особенно с детьми, как рабов Третьего рейха, бесплатную рабочую силу.
Трудовые лагеря – это такие же фашистские лагеря – мы так же были за колючей проволокой, под охраной, и нас так же не кормили, держали на таком же скудном пайке.
Нас переправили через Белоруссию, привезли в Польшу, и какое-то время мы жили там. Осознание в экстремальных условиях появляется гораздо быстрее, поэтому я в свои 5–6 лет уже понимала, что такое бомбы, что такое окопы, что такое голод и холод, что нельзя себя неправильно вести, иначе получишь плеткой или прикладом. Знала, куда можно идти, а куда нет. Понимала, что нужно сэкономить кусочек хлеба, разломив его пополам, чтобы было что пожевать вечером…
Последние годы войны мы жили в Германии, недалеко от Берлина, в лагере Бреслау. Маму гоняли на разбор разрушенных городов, поселков и на лесопосадки. Вы понимаете? 44-й год, идет война, а немцы уже думают о мирной жизни! Иначе зачем им лесопосадки? Они в это время еще и победить мечтали…
На территории лагеря стояли 2 барака, где мы жили. Все женщины – с детьми, и почти все из Орловской области. Над нами никаких экспериментов не ставили, даже наоборот – следили, чтобы люди были относительно здоровы. Все-таки рабочая сила! Раз в десять дней нас мыли, чтобы не было вшей – словом, элементарные правила гигиены соблюдались. И следили, чтобы не было воровства.
Дети целыми днями сидели в бараке, нас никуда не гоняли, и один раз в день нам приносили в большом котле какую-то похлебку. Каждому на неделю давали буханку хлеба. Я вот только не помню, и у мамы не догадалась спросить – одну буханку нам давали или две, ведь нас было два человека? Зато помню, как однажды у нас эту буханку украли. Конечно, все женщины возмутились, но мы остались на голодном пайке. Воровку потом нашли по крошкам хлеба под одеялом (или это была циновка, не помню). Конечно, побили, причем свои же – все понимали, что такое голод. Очень сложно было, можно и ее понять, но и нас тоже.
В 45 году мне исполнилось 7 лет. Уже не помню, знала ли я в это время буквы. Думаю, вряд ли, потому что книг у нас не было. Наших матерей угоняли рано утром и пригоняли поздно вечером – ни о каких занятиях, интеллектуальных играх речи не шло. Мы чем-то занимали себя, за территорию лагеря – охраняемого, огороженного колючей проволокой, не выходили. Никаких игрушек, песочниц у нас, конечно, не было. Так, мастерили что-то из палочки, из корешка. Но мы не дрались между собой, были дружны.
Я никогда не возвращалась в эти места. Во-первых, по работе долго не могла выезжать, а когда приехала в Берлин, когда уже было можно, как-то не получилось… Но я и не ставила себе эту задачу. Одно дело — Бухенвальд или Освенцим, Дахау, Равенсбрюк — там сохранились стены, а мы жили в фанерных бараках, во времянках, которые стояли в чистом поле. Наверняка там ничего не сохранилось.
Немецкие куклы
Когда нас освободили в 1945 году, мы оказались просто-напросто брошены. Вы понимаете? Не то, что пришла Красная армия, открылись ворота, и мы строем пошли или побежали. Нет, мгновенное наступление наших войск, и когда охрана почувствовала, что сейчас подойдут танки, когда начались обстрелы с самолетов, о нас забыли. И мы разбежались, кто куда.
Когда мы с мамой бежали по чистому полю, над нами в бреющем полете пролетел самолет, и нас обстрелял. Мама только кричала: «Ложись! Ложись!» Какое-то расстояние мы бежали, прячась по кустам, и вдруг в одном из оврагов увидели других женщин из нашего лагеря, из соседних лагерей. Потому что фашистских лагерей во время войны было более 14 000, это и в России, и в Белоруссии, и в Германии, и в Польше, и в Чехии, и в Австрии – везде. И во всех сидели советские люди.
И вот мы все столпились в этом овраге. Сидим день, сидим два, сидим три… Чем мы тогда питались, не помню. Помню лишь, когда мне дали расческу, я расстелила на коленках какой-то белый платочек и начала чесать волосы, с головы гроздями падали вши. Огромное количество вшей!
Мы стали жить на территории воинской части 8-й танковой дивизии – там же, в Германии. Женщин приняли, кого на кухню, кого в прачечную, женские руки там тоже были нужны. А меня взяла к себе семья военного врача – Нина Павловна Смирнова, капитан медицинской службы, и ее муж, начальник полка Михаил Михайлович Бессонов. Мама была занята на кухне, а я постоянно находилась при них.
Мы жили в посёлке, где стояли добротные одноэтажные дома с хорошей мебелью – все брошенные, стояли открытыми, война. И я помню, как ходила по этим домам – искала себе куклы. Немецкие куклы, вы наверняка знаете – самые красивые куклы в мире (их потом продавали в СССР).
Входишь в дом, а там стол сервирован, как у нас в городе, причем в семье с большим достатком – богемское стекло, закуски всякие. Видимо, началась бомбежка или обстрел, и люди убежали прямо из-за накрытого стола. Мне взрослые тогда сказали – никогда, нигде, ни в одном доме ничего не есть. Но я уже была и сыта, и одета… Мы жили там несколько месяцев, до победы оставалось совсем немного.
Победа
День победы я хорошо помню. Всё, что стреляло, – стреляло: пистолеты, автоматы, пулеметы… От радости, конечно, в воздух. Причем стреляло целый день. В середине поселка стоял большой-большой стог сена. Не такой, как у нас обычно делают, а с трехэтажный дом и под крышей. Так вот, в него попал один из выстрелов, и этот стог загорелся. Он горел очень долго, из-за чего все окрестные дома стали горячими. Мама меня не выпускала на улицу из-за этой стрельбы, и я помню, что до оконного стекла нельзя было дотронуться – руку жгло.
Понимала ли я, что значит победа? Наверное, понимала, что уже не будет выстрелов, не будет разрывов снарядов. От того, что жила в семье у врача, и к нам приходили немецкие женщины с ранами, Нина Павловна обрабатывала их, я быстро научилась ей помогать – подавала то ватку, то бинтик. Не боялась ни крови, ни ран, и потом долго думала, что буду доктором. Я в 7 лет была уже по-медицински грамотной. Знала, как правильно перевязать, чтобы повязка не упала с ноги, с руки – где нужно перевернуть этот бинтик.
В поселок начали возвращаться немецкие семьи – наши солдаты, офицеры их не обижали. К мирным жителям относились хорошо. Тогда я в первый раз увидела, что такое хороший быт – спальня, кухня, гостиная, узнала, как надо накрывать стол.
Этот немецкий порядок отложился во мне на всю жизнь. Когда в сарае ничто не валяется – каждому инструменту свое место, все покрашено, побелено и пострижено, все отремонтировано, когда дети с малых лет трудятся вместе с родителями. На меня это очень повлияло. Я даже у себя на даче в сарае навела такой же порядок, и в доме всегда слежу за чистотой – не могу работать, если не убрано.
Конечно, во многом мой характер сформирован во время войны и послевоенного лихолетья. С малых лет у меня не было брата, отец в первые годы войны погиб, и приходилось самой за себя бороться, отвоевывать место под солнцем. Потому что не на кого было опереться, совсем. Так я стала лидером. Не может быть, чтобы я не победила, что бы чего-то не сделала! Все задачи, которые по жизни ставила, все претворяла в жизнь.
Враги народа
Уехали мы к осени 45 года. Начальник полка Михаил Михайлович Бессонов говорил: «Клава, останься. В России сейчас очень плохо и голодно, там разруха. Мы тебя возьмем вольнонаемной или рядовой зачислим и поставим на довольствие». Но мне уже 7 лет, нужно идти в школу, и только поэтому, наверное, мама спешила. Мы вернулись в Орел. За нами приехала из Москвы одна из маминых сестер, и меня забрали в Москву – по старому месту жительства.
Помню, когда меня привели в 1 класс, по букварю проходили букву «У». А она одна из последних, значит, и «А», и «О», и какие-то односложные слова уже прошли. Что такое «мир», что такое «мама», «мама мыла раму» – все в прошлом. Значит, это был, наверное, уже октябрь – ноябрь месяц.
Мы к тому времени уже получили похоронку на отца, он погиб в первые годы войны на Ленинградском фронте. У меня до сих пор хранится несколько его писем, написанные карандашом со штемпелем 41-го года.
Самого папу я почти не помню, только один момент. Он принес мне в детский сад новые сандалики, а там был тихий час, и воспитательница поставила их перед моей кроватью. И вот запах этих сандаликов я помню до сих пор! Так что у нас были документы о том, что папа погиб, а про маму нельзя было упоминать, и мы говорили, что не знаем, где она. Дедушка вписал меня, как сироту, к себе в паспорт и получил на меня детскую карточку.
Маме в Москву было нельзя, по закону она имела право жить только за 101 километром — как враг народа, как угнанная, плененная. Поэтому осталась у сестры в Орле и поначалу даже не пыталась нас навещать. Знала, что арестуют. Но постепенно завербовывалась все ближе и ближе к Москве. Если Орел – 360 километров, то она находила работу на полпути, в районе Тулы, а это уже 180. Потом еще ближе, еще…
В последние годы перед смертью Сталина работала на лесозаготовках в городе Дедовск. Помню, как я к ней приезжала. И она уже рисковала иногда – навещала нас в воскресенье. Но если попадалась на глаза соседям, значит, среди ночи приходили из НКВД, и ее выгоняли. Слава Богу, хоть не сажали! До Курского вокзала далеко, поэтому она до самого утра шла пешком по улице и горько плакала. Лишь бы только не быть дома, потому что находиться в семье было нельзя.
Я никогда в жизни, ни в одном документе не написала, что была в Орле на оккупированной территории, тем более что нас с мамой угоняли в Германию. В школе была пионеркой, потом комсомолкой, и по окончании смогла поступить в институт. Иначе бы не приняли – как дочь врага народа.
По маме я очень скучала. Пожалуй, именно тогда и начала верить в Бога — молилась, чтобы мама побыстрей приехала. Я так хотела ее увидеть, что даже сейчас верю — это мое желание передавалось ей свыше, и мама вдруг неожиданно появлялась! Я жила с тремя ее сестрами и с дедушкой. И старшая из сестер – тетя Шура, меня очень любила. У нее не было семьи, никогда не было детей, и всю свою любовь она отдавала мне. И сейчас в молитвах, я иногда ее вспоминаю чаще, чем маму…
Маму в Москве, по старому месту жительства, прописали только в 56-м году, когда умер Сталин, когда все уже утряслось, когда было доказано, что мы не враги народа, и с немцами не сотрудничали.
«По немецкому я успевала лучше всех»
Шла обычная послевоенная жизнь. Я знаю, что такое продуктовые карточки, что такое номерки химическим карандашом на руке. Когда мы получали хлеб, и бабушка делила буханку на всех, я прятала свой кусочек, и еще обижалась: «А здесь нет 250 граммов!» По карточке было положено 250 граммов. Но у нас был еще 18-летний мамин младший брат, которому, конечно, требовалось чуть-чуть больше хлеба. И я помню, что даже возникала – мол, почему вы мне…
У меня был свой отдельный уголочек, своя тумбочка, куда я прятала этот хлебушек. Но, если приходили гости, бабушка его забирала у меня и клала на общий стол. Нужно же было напоить их чаем! Я приходила из школы и плакала. Было так больно, так обидно, потому что всегда хотелось есть.
Жили на подножном корму. Я помню оладьи из мерзлой картошки – их называли кавардашками, потому что нужно было иметь мужество, чтобы их съесть. Бабушка ездила на электричке за грибами, за этой мерзлой картошкой, оставшейся после пахоты — собирала остатки. Квашеную капусту продавали по 1 килограмму в руки, и дедушка в 4 часа утра ходил записываться – семья-то большая: три мамины сестры, брат, бабушка, дедушка и я.
Так мы жили, наверное, до 49-го года. Мне было уже 10–11 лет. Потом стало посвободнее, карточки отменили, и в школе уже давали бублик и две кругленькие конфетки – особенно тем детям, у кого погибли отцы. Мне начали платить пенсию за погибшего папу – 200 рублей. Появились какие-то деньги, какая-то возможность, но всё равно было голодно.
Училась я хорошо, была девушкой любознательной. Могла сегодня двойку получить, а завтра пятерку, причем эта пятерка была единственной в классе! Хотя никто не заставлял учиться. Если не прогуляешь, выучишь уроки, значит, все уложится в голове.
И у меня всегда были подруги. Ко мне тянулись, причем девочки из хороших и обеспеченных семей. Возможно, они видели во мне защитницу. А я могла защитить, пусть не была первой в классе, но ходила в лидерах. В старших классах это стало особенно заметно – я могла сорвать уроки и три десятых класса увести, например, в кино. Бывало и такое.
Делать уроки я часто ходила к подругам, потому что жила в бараке, а они – в квартирах с унитазами. Меня там даже подкармливали, как свою девочку. Но я все же старалась не наглеть и лишний раз за кусочком хлеба не тянулась.
Но я никогда – ни в школе, ни на улице, ни слова не сказала о своем прошлом. Зато, когда мы начали изучать немецкий язык, я успевала лучше всех. Потому что уже в 7 лет могла спокойно объясниться на бытовом уровне – куда я пошла, где была, что хочу… Так что начинала я не с нуля, как остальные. Знала, как сказать «книга», а как «карандаш». Но никто лишних вопросов не задавал – такие дети были. Потом, конечно, я эти знания растеряла.
Я была пионеркой, комсомолкой, состояла в Совете отряда. Но в пионерские лагери не ездила. На лето меня отправляли в Орел к родственникам, у которых было свое хозяйство.
Чтобы заработать себе на платьице или какую-то рубашечку, я пасла корову и торговала на базаре ягодами, потому что сестре, местной, стоять на базаре казалось неудобным. А я – москвичка – могла. За что ее мама, моей мамы сестра, очень меня любила. Она даже тогда – в мои 10-12 лет, когда будила, говорила: «Тихоновна, вставай, корову нужно пасти». Понимаете, в 12 лет я уже была Тихоновной, и она просила меня, а не приказывала! И, конечно, жалела, потому что я жила без матери, без отца, без ласки. Но была при этом смышленой, доброй и все умела – у меня все горело в руках.
За сладкие куски
Мне исполнилось 18, я закончила школу, со второго раза поступила в пединститут и пошла работать в школу. Мама в то время трудилась на парфюмерной фабрике «Новая заря». У нас даже хлеб пах духами.
Я работала учителем младших классов, у нас были такие предметы как рукоделие, рисование, пение. То есть в институте мы получили и художественное, и музыкальное образование. Я не говорю, что мы Шопена играли, но «Жили у бабуси два веселых гуся» – вполне могли. И физкультуру, между прочим, вели.
Я энергичная, мне с детьми и поиграть, и побегать было в радость, но платили 57 рублей. Причем работала я на ставке учителя плюс полставки старшей пионервожатой. Да еще подрабатывала в библиотеке. Из долгов, конечно, не вылезала. Поэтому, когда вышла замуж, и родился сын, ушла из школы. Как многие матери, я хотела дать ему то, чего была лишена сама.
Первое, что я поняла, у него должны быть самые красивые игрушки. Второе – у него должно быть много книг. Помню, когда сама училась в младших классах, приходила в книжный магазин и подолгу стояла около прилавка — рассматривала картинки в книгах; купить, конечно, ничего не могла…
Я ходила с сыном в театры, в музеи, я всё ему дала. И работать пошла за сладкие куски – в Совмин, потом в Президиум Верховного Совета, потому что там были пайки, спецмагазины, секции, на заседания Верховного Совета в гостиницу «Россия» привозили ярмарки, бывали распродажи. Словом, он у меня всегда был одет, обут, сыт, состоял на учете в детской Кремлевской поликлинике, мы ездили отдыхать с семьей в правительственные санатории.
Маму я сняла с работы только для того, чтобы она сидела с ребенком, а у самой был ненормированный рабочий день. В общем, сделала всё, чтобы у моего ребенка не было такого детства, как у меня.
Я работала референтом группы питания. В наши обязанности входило обслуживание на приемах всех почетных гостей, которые приезжали на переговоры в Верховный Совет, и моменты награждения. Обычно это были званые небольшие чаепития без спиртного. Мы присутствовали, когда награждали космонавта Севастьянова, Татьяну Доронину, Анатолия Карпова, Расула Гамзатова…
Проработала там 9 лет, очень сложно. Я была заведующей, и в моем подчинении имелось 8 женщин. А в женском коллективе постоянно – у кого-то ребенок заболел, у кого-то муж не пришел домой… И при этом всегда все должно быть на самом высшем уровне.
Я работала с Георгадзе (секретарем президиума Верховного Совета), а Анатолий Иванович Лукьянов был моим непосредственным начальником. Я ему даже какие-то стихи посвящала на 50-летний юбилей, и он посвящал мне какие-то стихи. Он же под псевдонимом Осенев, по-моему, печатался даже.
Тогда было много интересных встреч, люди ко мне тянулись. Одна моя знакомая – журналист-международник Екатерина Васильевна Шевелёва, дружила с Дином Ридом и в один из его приездов пригласила близких людей к себе в гости на чай. Так что я целованная Дином Ридом! По работе встречалась со многими членами правительства, космонавтами. У меня есть книга, подаренная Расулом Гамзатовым.
Я дважды была замужем. Первый муж работал строителем, а второй — в «девятке» у Примакова. Но ни один из них не знал о моем прошлом. Эта тема была запретной и для мамы, и для двоюродной сестры – для всей нашей семьи…
Мой сын работает в спорте – футбольным судьей, так он всегда любил со мной где-то бывать. Иной раз может не взять жену (по молодости бывало), а меня звал. Гордился мной, говорил: «Познакомьтесь – это моя мама»… Потому что я всегда одета, причесана и всегда знала, кому и что сказать, какой комплимент принять.
Пять колес и шляпа от Славы Зайцева
Я села за руль в 38 лет, и у меня было такое сильное желание научиться водить, что с первого захода сдала и экзамены, и вождение. А когда мне исполнилось 50, приняла участие в телевизионном конкурсе «Автоледи» и заняла там первое место.
Помню, я ехала по городу, меня остановил милиционер, а рядом с ним стоял кто-то с телевидения. «Мы хотим вас пригласить на конкурс». Так и попала, буквально. В результате мне, как победителю, подарили 5 колес и шляпу от Славы Зайцева. Та шляпа еще жива, правда, я ей поля немного обрезала, чтобы можно было не только в праздники, но и в будни носить.
Потом я участвовала в ледовых гонках на озере Черном – где-то в районе Кузьминок, и заняла там третье место. На «жигулях», на лысой резине… Сын мне сказал, что если бы не резина, пришла бы второй как минимум.
У меня за плечами очень много километров пути – я ездила в другие города, а моими попутчиками были две моих собаки. За рулем всегда отдыхала. Особенно, когда возвращалась из Кремля, в 10-11 часов вечера. Садилась у храма Василия Блаженного, где стояла машина, и ехала по пустой Москве.
Правил я никогда не нарушала. Хотя, когда сына забирали в армию, мы его уже проводили, и вдруг он звонит с Казанского вокзала: «Мама, нас сажают в поезд номер такой-то», – я из Чертаново до Казанского вокзала доехала за 22 минуты. И успела! Прошла по всем вагонам, нашла сына, обняла его, поцеловала, пожелала, и он уехал в сторону города Горького. Потом служил в Германии, в Потсдаме.
…Я до сих пор за рулем, постепенно влилась в эти пробки, в этот бесконечный поток. Люди сейчас очень агрессивно ездят.
«Действий против Родины не совершала»
Пока я работала, не боролась за статус узника. Наоборот, умалчивала эту тему. И только, когда вышла на пенсию (а это был 93-й год), решила, что уже можно. В то время мы жили на даче в Калужской области. В войну вся область была оккупирована, и все мои соседи по деревне получали деньги.
И однажды, в один из приездов в Орёл, мне моя двоюродная сестра говорит: «Галя, почему ты не сходишь в ФСБ?» Маму к тому времени давно уже прописали, все встало на свои места – мы не враги народа. И Ельцин одним из первых своих постановлений приравнял таких, как мы, к участникам войны.
Иду в ФСБ, рассказываю: «Так, мол, и так, в 43 году мы с мамой были угнаны в Германию, её фамилия такая-то». «Посидите», – говорят и через 15 минут приносят мне папку, где маминой рукой написано, как нас угоняли, как грузили, где мы были, как мы вернулись, и сверху лежит справочка о том, что действительно «Жилина Клавдия Ильинична была угнана в Германию в июле 43-го года с ребенком. Находилась в лагере Бреслау, действий против Родины не совершала».
Я взяла копию этой справки, и единственное, что пришлось доказывать – что я и есть тот самый ребенок. К счастью, у мамы больше не было детей. Суд признал меня узником концлагеря.
Мама не получила ничего, я – в общей сложности 3 тысячи евро. К тому времени основные транши уже прошли. Но зато, получив удостоверение, я начала разыскивать своих соплеменников. Людей, у которых такая же судьба – тех, кто был на оккупированной территории, кто был угнан. И нашла в Чертаново такого человека – первого руководителя районного масштаба, который объединял людей этой категории. Пришла к нему с документами и сказала, что тоже хочу быть членом организации.
Меня с удовольствием приняли. Человек я грамотный, коммуникабельный. Притом, что наша категория – очень малограмотная. Многие не получили образование только потому, что были врагами народа. Поэтому мне поручили вести какие-то дела, и потихоньку я стала втягиваться, узнавать, что и как происходит в Москве.
Составила списки узников в своем районе, особенно тех, кто не был охвачены ни планами, ни задачами, ни целями — образовалась целая группа. Потом стала добиваться, чтобы 11 апреля, в День освобождения узников, нам устроили какой-то концерт, чтобы действительно был праздник. На Поклонной горе знакомились с узниками других округов. Так постепенно создавалась Московская организация.
Память о страшных днях
Мы встретились с узниками в каждом районе – определили задачи, цели, у нас появились планы. Начали писать письма. И в итоге в 2003 году меня выбрали руководителем организации бывших узников фашизма Южного административного округа, а затем и всей Москвы, где я с удовольствием до сих пор работаю.
И для меня это прежде всего – в память о тех, кто не дожил. В память о моей матери. Мы начали выпускать книги, брошюры, писать стихи. В нашем округе был прекрасный поэт (он уже умер), Леонид Михайлович Тризна, – выпустили несколько его сборников, в том числе «В плену обугленного детства».
Он сам – узник белорусского лагеря Озаричи. Это страшный лагерь под открытым небом, где людей не кормили, и они не имели права даже снег собрать, чтобы попить… Их заражали сыпным тифом. При отступлении немецких войск это был один из способов, чтобы распространить тиф на Красную армию. Такая велась бактериологическая война.
Озаричи, Матреновка, Хатынь, Хацунь… Все наши поездки были связаны с оккупацией немецкими войсками, в основном, российских и белорусских территорий. А в 2011 году моя внучка закончила 10 класс со всеми пятерками, и я ей подарила такую поездку по Белоруссии, чтобы она своими глазами увидела, что такое война, что такое Брестская крепость, что такое взрывы, что такое прожектора, что такое пулеметная очередь — чтобы все это пропустила через себя.
С нами ездили еще дети, старшеклассники – 10–11 класс. Они возвращались из этих поездок совершенно с другими глазами! Мы могли жить на территории санатория, где вечером всегда были танцы. Но нет, никто танцевать не идет. Они подходят к нам и просят рассказать еще что-нибудь… И мы начинаем рассказывать – и со стихами, и со слезами на глазах. Ведь наша работа в том и заключается – нести память о тех страшных днях.
В нашей организации есть люди, у которых на голове до сих пор – шрамы от прикладов. Есть те, кого матери заслонили собой от убийства.
Начиная с 2004 года, я добивалась выделения кусочка земли 2х2 м. в Парке 30-летия Победы в Южном округе, чтобы поставить камень или плиту в память о детях — узниках фашистских лагерей. И 10 лет там стояли три плиты с рисунками детей за колючей проволокой!
А 8 мая 2014 года открыли на этом месте Памятник «Детям-узникам фашистских лагерей», единственный в Москве, нам депутаты муниципального собрания Чертаново выделили на него 3 миллиона. Выхлопотала, выпросила, выстрадала я эти деньги!..
Зато теперь к Памятнику ходят пары молодоженов – возложить цветы, чтобы их дети никогда не узнали, что такое фашизм, что такое голод, что такое преследование. А под Новый год мы наряжаем там елку, потому что у тех детей никогда не было такого праздника.
Странно, но мне никогда не снится мое «угнанное» детство. Не знаю, почему. Конечно, бывают какие-то кошмары, когда за мной кто-то гонится, и это могут быть немцы… но не думаю, что виной тому детские воспоминания. Но все равно, как писал Леонид Тризна:
«Я помню давнюю весну,
Поля траншеями изрыты.
Нет, не играли мы в войну,
Мы настоящей были сыты.
Уже война закончилась давно,
Но не забыть нам голод, муки.
И только молим Бога об одном,
Чтоб этого не знали наши внуки».
Фото и видео: Виктор Аромштам
Читайте также:
- О «русском» японце и тысячах спасённых жизней
- Андрей Золотов: После войны ненависти к немцам у нас не было (+Видео)
- Небесная похоронка