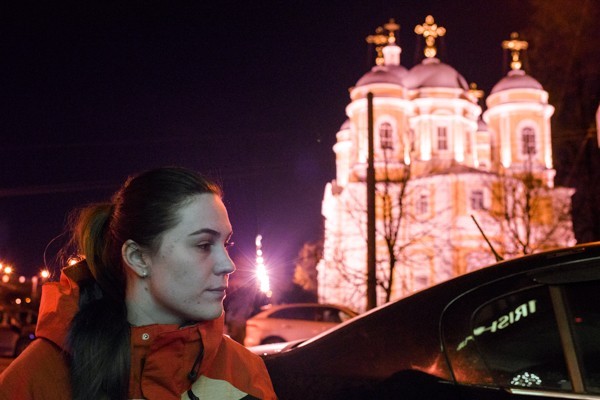«Увидят ваши дети уродов и станут уродами». Откуда берутся такие слова и как научиться принимать других


Священник Петр Коломейцев
Помню свой первый шок. Я — маленький. Мы с папой пришли в гости к знакомому художнику смотреть слайды из путешествия. Вместе со мной перед экраном, поставив ногу на низкую табуретку, сидела жена художника, а нога у нее была без стопы. Я не мог оторвать глаз от этого обрубка, делал усилие, чтобы сосредоточиться на кадрах, но то и дело с ужасом вглядывался в ногу. Она заметила, рассказала, что однажды переходила железнодорожные пути в неположенном месте, так стопу и потеряла. Потом ушла в комнату и вернулась уже с ногой. Только тогда я облегченно вздохнул.
Второе потрясение испытал, когда сосед по коммуналке дядя Юра впервые положил передо мной свою вставную челюсть. Он клал ее в стаканчик и ставил на раковину во время умывания. Каждый раз, когда челюсть возвращалась в рот к дяде Юре, я успокаивался. Для меня было гораздо лучше, когда челюсть и дядя Юра существовали вместе, а не порознь…
Он был «Железной маской»
В нашем классе был мальчик, которого никто не видел. Он числился, но занятий не посещал. К нему домой ходили педагоги. Однажды классная руководительница предложила, чтобы кто-то из нас, договорившись между собой, навестил его. Парень жил в моем подъезде, поэтому выбор пал на меня.
Тогда-то я впервые услышал слово «полиомиелит», увидел, как болезнь скручивает человека, как с трудом он передвигается, как в муках рождается звук из впалой груди. Я рассмотрел ботинки на высокой подошве с какими-то пружинами, удивился, что ровесника-девятиклассника мать кормит с ложечки, потому что руки не слушаются.
В начале наше общение мне даже нравилось. Мы играли в шахматы. Он называл ход, с трудом выговаривая слова, я переставлял фигуры и за себя, и за него. Очень скоро начал обыгрывать. Попытался поддаваться, но мой соперник замечал это, расстраивался, обижался.
Мне и самому не нравилась эта игра в поддавки, к тому же у меня была внутренняя установка: я обязан причинить добро, ведь это моя миссия.
Словом, я перестал к нему ходить.
Сталкиваясь на лестнице с его мамой, я здоровался, раскланивался, дипломатично отвечал на «ну что же вы к нам не заходите, Петенька» и не мог не заметить, что она обижена. Мы оба были подчеркнуто вежливы и оба совершенно неискренни. Объясни она мне тогда, что играть в шахматы необязательно, намекни хоть словом, что для запертого в четырех стенах подростка я — глоток воздуха. Расскажи хоть полслова, что ее сын будет счастлив, если я изредка сидел бы рядом и рассказывал о школьных буднях, смотрел вместе с ним «В мире животных», отхлебывая чай… Но она молчала и не навязывалась, а я не спрашивал.
Иногда при встрече она ласково удерживала меня, расспрашивала про школьные поездки в Одессу и Таллин, про моих родителей и их здоровье, про планы на будущее. Ей же на бегу я сообщал, что готовлюсь в МАРХИ, потом — что учусь… Я тогда не догадывался, что все эти расспросы, вся та нежность и внимательность, которую она щедро изливала на меня, были ради сына, которого она подпитывала живыми «рассказами от Пети». Вскоре умер ее супруг, потом сын, а потом и она ушла в мир иной.
Как-то мне попалась «Железная маска» Дюма, которую я махом проглотил. Тогда-то поймал себя на мысли, что мой сосед-ровесник для всех был такой «железной маской»: героем, про которого никто и ничего не знает, которого не существует ни для кого. Это был мой первый урок освобождения от юношеского невежества.
Я понял, что оказался одним из тех, кто поматросил и бросил беспомощного: таким же инвалидом, только не опорником, а моральным. Именно тогда я осознал, как опасно ставить барьеры между особенными и обычными детьми, как недопустимо изолировать и отнимать одних у других. Увы, к мысли «можно просто дружить» я пришел слишком поздно.
«Увидят уродов и станут уродами»
В 1991 году меня рукоположили. Я стал сельским священником в подмосковном приходе в Таболово. Как-то раз знакомая попросила освятить лагерь. Незадолго до этого мы нашли с ней бывший пионерский лагерь, договорились с руководством о размещении в нем на лето реабилитационного центра для детей-инвалидов.
После освящения я решил остаться там и помогать вместе с супругой. Наши дети, как и дети других сотрудников центра, жили бок о бок с детьми-инвалидами в одной половине лагеря. Вторую половину арендовала какая-то спортшкола. Юные футболисты поселились также вместе с родителями. Последние довольно регулярно делали нам замечания:
«У нас спортивные и очень нормальные дети. Они красиво сидят и ходят, красиво едят, а тут ваши кривые и косые оскорбляют своим видом всех… уберите их подальше».
Настрой родителей был самый решительный, поэтому, что ни день, они требовали развести потоки и не допускать пересечения особенных детей с «исключительными», в первую очередь в столовой. Нам предъявляли ультиматум, но самое забавное, что в своих замечаниях эти люди ничем не отличались от прочих моих знакомых, которые пугали нас с женой: «Увидят ваши дети уродов и станут уродами. Не боитесь, что будут перенимать их некрасивые привычки: ковырять в носу, лазить в рот руками и облизывать столы?» Мы не боялись, да и дети наши уродами почему-то не стали.
Зато именно тогда я окончательно понял, в какое страшное время все мы росли. Мы не видели рядом особенных людей. Их не пускали в школы и институты. Привезти колясочника на публичное мероприятие, утренник в саду или в школе было немыслимой и невообразимой дерзостью, никто и не решался. То лето 1991 года многое дало моим детям, как минимум положило начало их терпимости и внимательности к ближним.
Жан Ванье и его «Ковчег»
Следующим летом, я как раз отметил год служения, меня неожиданно пригласили на встречу христианской молодежи, организованной движением «Ковчег» Жана Ванье.
Я приехал в Новодевичий монастырь к владыке Ювеналию прямо накануне отъезда просить благословения. Человек я был неопытный. Думал, поймаю владыку после службы и спрошу, не возражает ли, если сгоняю в Эльзас на молодежную тусовку.
Владыка, обескураженный просьбой, посмотрел на меня как на умалишенного: «Вообще-то следует прошение писать. Вы же едете за границу на международное христианское мероприятие! Оставьте прошение секретарю, я посмотрю и отвечу». И уже вечером я получил положительный ответ, за что был несказанно благодарен! А после возвращения из Франции владыка благословил меня и впредь вести работу с людьми-инвалидами и, главное, служить литургию на антиминсе на выездных встречах для особенных людей.
В большом поместье под Страсбургом, у самого подножья горы Сент-Одиль, была организована международная недельная встреча. Посреди прекрасного ботанического сада стояли палатки, душевые, мобильные туалеты. Аристократ не пожадничал своим любимым детищем ради встречи христианской молодежи.
На территории поместья собрались христиане самых разных конфессий со всей Европы: духовенство, группы из особенных людей, волонтеры, словом, все, кто желал познакомиться с опытом Жана Ванье, сделавшего колоссальный переворот в отношении к людям с ментальными особенностями. Для меня же Ванье стал человеком-открытием, человеком, перевернувшим мой мир окончательно, тем, кто доказал, что жизнь инвалида может быть насыщенной и счастливой. Именно Жан Ванье превратил меня в компетентного соработника, вооружив твердыми основаниями — духовными и техническими — для дальнейшей деятельности и служения.

Жан Ванье (в центре)
С 1992 года я регулярно стал участвовать в мероприятиях движения «Вера и свет», основанного Ванье. Я откликался на приглашения о сотрудничестве реабилитационных центров, которые возникали в стране. Работа с инвалидами стала направлением моего церковного служения, за которое я страшно благодарен Богу и людям. Я служил литургии в сергиево-посадском доме для слепоглухих, в Центре равных возможностей для детей-сирот «Вверх», в реабилитационном центре для детей-сирот тяжелых пациентов РДКБ «Незнайка»…
Дьякон-сурдопереводчик из Новодевичьего монастыря
В Новодевичьем монастыре, где я алтарничал и был рукоположен, служил протодиакон Павел Трошинкин. Человек исключительных дарований: прекрасный музыкант, полиграфист, полиглот, преподававший арабский язык, знаток церковного устава, ко всему прочему сурдопереводчик.
После перестройки народ хлынул в Церковь. Всем было страшно интересно, как она устроена, чем живет. Священников стали звать на самые разные мероприятия, в газеты, на радио, телевидение. Интерес к Церкви появился и у неслышащих, которые, прознав про дьякона-сурдопереводчика, рекой потекли в монастырь.
Для небольшой группы, которая образовалась при Новодевичьем, отец Павел «читал» лекции. Часами отвечал на вопросы, в первую очередь те, которые касались визуального восприятия службы. Понятно, музыка, в которой он был суперспециалист, глухих людей не особенно интересовала. Поэтому-то отец Павел в помощники стал приглашать меня, архитектора-реставратора по первому образованию. Я рассказывал об иконе, устройстве храма, особенностях архитектуры, а он мои выступления переводил.
Незаметно кружок превратился из инициативной группы в общину, которая по благословению Патриарха вскоре получила совершенно разрушенный храм Тихвинской иконы Божией Матери на территории Симонова монастыря. Слабослышащие разгребали завалы и восстанавливали храм, где в 1993 году начались службы на жестовом языке. Священник и дьякон сами переводили службу, а когда поворачивались спиной к прихожанам, озвучивал их слова и действия переводчик, который стоял тут же на клиросе. Сначала таким переводчиком был протодиакон Павел Трошинкин, потом я закончил курсы жестового языка. Вскоре общину возглавил протоиерей Андрей Горячев.
Это сейчас жестовым языком владеют многие священники и дьяконы. Свято-Тихоновский институт выпустил уже два курса неслышащих студентов. А в девяностые годы специалисты были наперечет. Нас везде приглашали делиться опытом. В Петербург мы вообще ездили специально организовывать общину, где познакомились с потомственным сурдологом Денисом Заварницким. Помню, как служил обедню в красном уголке актового зала дома для слепоглухонемых в Загорске…
Филоксения — это дар
После войны тяжелых инвалидов в СССР интернировали в медицинские спецучреждения на Валаам и в Загорск, чтобы не досаждали видом, не портили радостную картину светлого социализма. На время фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве, инвалидов вообще выслали за 101-й километр. Однако то, что нас всех пугала и продолжает пугать встреча с инвалидностью, связано не столько с советским воспитанием, сколько с общечеловеческим неприятием инаковости, ксенофобией.
Откуда это стремление избегать особенного и нездорового? Не ветхое ли это в человеке и человечестве?
Взяв в руки географическую карту, увидим пики ксенофобии и толерантности. Исторически ксенофобия нарастает с востока на запад Евразии и с севера на юг. Если вспомнить греческий эпос, окажется, что бог-инвалид там один — Гефест. Живет он не на Олимпе, а в море, воспитывается не родной матерью Герой, а приемной Фетидой. Представить хромоногого Гефеста верховным божеством немыслимо.
Но, если обратиться к северному эпосу, окажется, что там-то верховным божеством вполне может являться инвалид. Хозяин Вальхаллы и повелитель валькирий Один — инвалид по зрению. Видимо, чем более суровы условия (севернее и восточнее), тем выше становится ценность каждого человека. Человек с изъянами не воспринимается там так отторгающе и пугающе, как в землях, на которых тепло, светло и сытно.
Где был принят «первый закон об инвалидах детства»? В Спарте, Ликургом, в V веке до нашей эры. Там учредили психолого-медико-педагогическую комиссию, которая проводила мониторинг всех рожденных детей и отбирала младенцев с особенностями развития для их последующего… уничтожения.
Помню, в нашем классе у одного мальчика умерла мама. Мы все сторонились его как чумного, потому что «у него мать покойница». Парень для нас вдруг стал пугающим существом, прокаженным, которого хотелось обойти стороной, лишь бы не соприкасаться, не заражаться. Согласитесь, во всех перечисленных мной примерах есть что-то животное, такое, с чем трудно бороться. Неприятие и отторжение опасного свойственно именно ветхой природе человека.
В одной из последних лекций, которую Жан Ванье прочел по скайпу в РПУ, он сказал, что вся его жизнь была борьбой с ксенофобией внутри себя. Филоксения (гостеприимство, принятие другого) — это не простой дар, который кому-то дается, а у кого-то отсутствует. К этому надо идти, постоянно борясь с собственным неприятием и отторжением.
И у Ванье были периоды отчаяния, когда он понимал, что ему слишком трудно взаимодействовать с особенными людьми. Он чувствовал беспомощность и даже страх. У каждого однажды возникает желание встать и убежать подальше, чтобы не видеть, не слышать, не знать.
Но вспомните три страшных вещи, которые потрясли царевича Сиддхартху Гаутаму. Отправившись в путешествие, во-первых, он встретил старика и озадачился вопросом: зачем молодость, если будет старость? Во-вторых, познакомившись с больным человеком, он удивился: зачем здоровье, если будет болезнь? В-третьих, встретив смерть, оказался окончательно потрясен мыслью: зачем жизнь, если все равно мы умрем?
Он ушел в Шахийский лес и подвизался там в одиночестве и молитве, пока на него не снизошло просветление и он не стал Буддой. Выходит, столкновение с реалиями жизни привело к созданию самой пессимистической философии?! Буддизм говорит: жизнь — это такое зло, что лучше с детства готовиться к смерти и не ожидать ничего хорошего.
Но именно там, где царевич пришел к самым пессимистическим выводам, в этой духовно богатой стране, возникла проповедь женщины. Той, которая, взяв ведро и тряпку, вымыла пол в доме и собрала вокруг себя прокаженных. Проповедь Терезы Калькуттской «где милосердие — там Бог» оказалась настолько сильной именно потому, что в этой культуре не было никакого милосердия, кроме кармы. Повязав голову синим платком с белыми полосками, святая Тереза перевернула жизнь Индии.
Я убежден, поворот от древнего чувства ксенофобии к филоксении связан именно с христианством. Христианство повернуло фокус внимания с телесного совершенства к духовному и позволило преодолеть ксенофобию. Как каждый из нас побеждает в себе ветхого человека, так каждый побеждает в себе «естественное» отторжение особенных людей и их страданий.
Впрочем, мало просто повернуться к страдающему человеку, мало проявлять терпимость и милосердие к инаковости, важно не впасть в патернализм. Отношение «я опекаю, обихаживаю, творю добро» неизбежно ставит нашего оппонента в положение объекта заботы, в предмет приложения нашей деятельности, а не в субъект общения. Инвалид становится объектом, которому я причиняю добро.
Жан Ванье повторял, что ему стоило колоссальных внутренних усилий и даже страданий открывать в себе эти черты характера и с ними бороться. Он был убежден, что для преодоления ветхости в себе необходима помощь Божия.
С первого дня моего служения ко мне приходили с вопросами о справедливости Божьей воли. «Почему один слышит, а другой — нет. Один ходит, а другой может только лежать. Один видит и говорит, а другой скручен и умирает в младенчестве? Где Божья справедливость?» — озадачивали меня собеседники.
И однажды я был потрясен репликой неслышащего. Он сказал, что искал, но не нашел ответа на свои вопросы, равно как и Иов: «Почему я глухой? Ответа от Бога так и не получил. Но то, что нет уменьшения Божьей любви ко мне, знаю точно. Справедливость Божья не в том, что один слышит, а другой нет. А в том, что Бог любит неслышащего так же, как того, кто слышит».
Меня не покидало ощущение обиженности
Год назад я оказался на больничной койке. Перенес операцию на позвоночнике и больше полугода вынужден был только лежать, а потом еще полгода вновь учиться ходить. Я сделал немало неприятных открытий о себе самом. Как оказалось, человека, который тяжело болен, не покидает ощущение обиженности. Все кругом здоровые, а ко мне внимания мало.
Я стал понимать, почему больные люди обижаются на тех, кто за ними ухаживает, откуда вдруг возникает их скверный характер. Как оказалось, лежачему больному важно найти для себя смысл происходящего. Его невозможно не искать! Ну правда, для чего все это?
Не могу сказать, что обрел этот смысл окончательно, зато стал тем самым раненым целителем, который лучше понимает тех, кто страдает. Я был поражен, что после возвращения к службам и исповеди ко мне неожиданно стало приходить больше прежнего людей помогающих профессий. Тех, у кого на руках находятся тяжелые родственники, в том числе лежачие, с деменцией, которые портят нервы своими капризами.
Если раньше я мог только поддержать, теперь способен доходчиво объяснить, что на самом деле чувствует человек, прикованный к инвалидному креслу или постели, находящийся в абсолютной темноте или немоте. Я могу подсказать, на что обращать внимание, как сохраниться в этом тяжелом труде. У меня появились точные слова и тем, кто несет бремя страданий, будучи нездоров сам. И это другие слова, чем прежде. Таких людей, с депрессиями, тяжелыми физическими недугами, которые тиранят своих близких, среди моих исповедников стало в разы больше.
Глядя на жизнь ретроспективно, я понял, что мой опыт оказался движением по лестнице. Ступенька за ступенькой, усвоение, повторение и закрепление пройденного материала, углубление. Все в жизни было не зря. Собственная болезнь стала не школой и даже не университетом, она — аспирантура, в которой я сделал открытие. И открытие это невероятно простое: людям помогающих профессий необходима серьезная духовная подготовка, в то время как обществу не обойтись без перезагрузки, без смены ветхозаветной парадигмы на новозаветную.