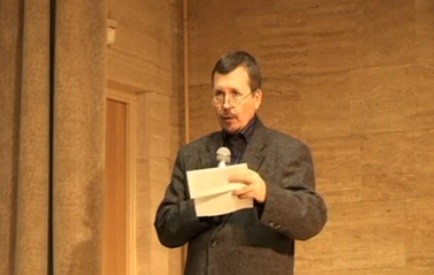
Французская культура Нового времени прочно ассоциируется у русскоязычного читателя с идеологией просветительства, именами Руссо и Вольтера, призывавшего “раздавить гадину” (то есть Церковь), с антиклерикальным пафосом Анатоля Франса. Меньше известен феномен так называемого “католического возрождения”: в начале XX века целая плеяда французских писателей, критиков, философов обратилась к христианским истинам, глубоко усвоила их, что отразилось и в их творчестве. Свою веру они исповедовали открыто; во Франции стали привычными понятия “писатель-католик”, “католический интеллектуал”. По словам М. Волошина, “парадоксальная судьба вырастила в республиканской, социалистической и свободомыслящей Франции поколение, проникнутое идеями традиционализма, поколение роялистов и католиков”1. Религиозный ренессанс осуществился и в художественном творчестве (Мориак, Бернанос, Блуа, Валери-Радо), и в критике (Фюме, Массис, Максанс, Марсель Пеги), и в теории христианского искусства (труды Маритена, Шарля Дю Бо).
На этом фоне яснее высвечиваются мировоззренческие доминанты русской литературы этого же периода. Интерес к метафизическим вопросам, вдохновлённый Вл. Соловьёвым, можно назвать “религиозным возрождением”, которое породило русскую религиозную философию начала ХХ века, мистические мотивы в литературе серебряного века, но если говорить о строго христианском (точнее, естественном для России православном) мироотношении, то в художественном творчестве оно практически не воплотилось. Различие культурного контекста России и Франции первой трети XX века особенно заметно, если заменить в вышеприведённых определениях слово “католический” на “православный”. Ни в России дореволюционной, ни в советской (что понятно), ни в зарубежье не сложилось “литературы православного возрождения”. Собственно православных, без оговорок, писателей были единицы (И. Шмелев, Б. Зайцев, Л. Зуров). Возрождение христианской идеи ограничилось кругом философов, историков, искусствоведов.
В настоящей статье пойдёт речь о встрече самых видных представителей религиозного возрождения — русского и западного, католического. Она стала возможной благодаря эмиграции русских интеллектуальных сил, большая часть которых обосновалась во Франции. На рубеже 1930-х годов такой диалог воплотился в деятельности Франко-русской студии. На протяжении полутора лет (с октября 1929 по апрель 1931) русские писатели, общественные и религиозные деятели регулярно встречались в Париже с французскими литераторами, критиками, философами. С русской стороны инициаторами создания Франко-русской студии были поэт и журналист В. Б. Фохт и писательница Н. Городецкая. Среди французских организаторов — католические интеллектуалы, вдохновлённые философской и религиозной мыслью Жака Маритена: романист и критик Робер Себастьен, литераторы Жан Максанс, Марсель Пеги2.
Первый сезон был наполнен острыми спорами между французскими “левыми” и “католиками”, а среди русскоязычных полемика была спровоцирована выступлениями представителей крыла, сочувствующего большевизму. Характерно, что группы единомышленников возникали не по национальному, но по мировоззренческому признаку: водораздел пролёг между христианами и сторонниками секулярного гуманизма. Второй сезон проходил более спокойно, состав участников оказался более однородным. “Именно католики и их русские союзники выиграли сражение за Студию, не без содействия её ведущих, Фохта и Себастьена. Последние были тесно связаны с кругами интеллектуалов, которые видели разрешение европейского духовного кризиса в религиозном возрождении”, — отмечает Л. Ливак3.
Одна из тем, обсуждавшихся на собеседованиях, — взаимосвязи христианской веры и художественной литературы. Особенно широко дискуссии по этой теме велись на встречах, посвящённых двум самых известным на Западе русским классикам, Достоевскому и Толстому, и французским писателям — А. Жиду, М. Прусту, Ш. Пеги. Что же интересовало русских в культуре Франции и что ценили французы в творчестве и религиозной мысли России? Какие грани этой темы оказывались в центре внимания? Каковы были линии взаимопритяжения и отталкивания? Из мозаики докладов, суждений, реплик возникает яркая, глубокая по мысли картина диалога двух великих культур.
18 декабря 1929 г. с докладом “Проблема Достоевского” выступил литературный критик, журналист, редактор газеты “Россия и славянство” Кирилл Зайцев. По его словам, Достоевский доказал своим творчеством, что художественная литература может играть ту же роль, что и философия, поскольку тоже ставит онтологические вопросы. Весь Достоевский заключён в вопросе о существовании Бога, и Бог занимает огромное место в творчестве романиста. К. Зайцеву весьма резко возразили французский романист, эссеист, литературный критик Рене Лалу (выступивший с со-докладом “Достоевский и Запад”) и В. С. Познер. Лалу заметил, что Достоевский — последовательный противник Запада; что же касается его религиозной доктрины, то она основана на смеси “мистицизма с эпилепсией, религии с литературой, Христа с русским национализмом”. Достоевский, по мысли Лалу, ценен как хороший художник, но не как сомнительный мыслитель.
Поэт, журналист и критик В. Познер занял ещё более радикальную позицию: “пора провозгласить разделение Церкви и литературы”, не следует совмещать художественный подход к творчеству с философско-богословским. Судить романиста нужно только как романиста, а литературная критика не должна становиться лишь средством в рассуждениях на философские темы. Это заявление Познера вызвало протесты со стороны не только русских эмигрантов, но и французских католиков, которые дружно поддержали К. Зайцева. Священник Лев Жилле напомнил, что Достоевский был православным и привёл к православной вере многих, в том числе и на Западе. Габриель Рей отметил родственность и схожесть судеб Паскаля, Ницше и Достоевского: “Это три больных человека, которым особенно была близка проблема зла как в его активной форме (подавленные инстинкты, гордость, которую надо побеждать), так и в пассивной (болезнь, страдания и отчаяние)”. Они были верующими, поэтому проблема зла соединялась у них с проблемой Бога. Паскаль, начав как “научный верующий”, стремился к христианской апологетике; разбитый страданием, он нашёл успокоение в католической вере. Ницше также страдал, двигался путём Шопенгауэра и Вагнера, но не обрёл своих ориентиров. “Достоевский, измученный каторгой и эпилепсией, нашёл выход в православной вере”4.
Споры по поводу эстетического и религиозного подходов к искусству слова обострились на следующем заседании, посвящённом Льву Толстому (28 января 1930). Русский лингвист, историк и литературный критик Н. К. Кульман посвятил свой доклад драматическому духовному пути писателя. С французской стороны выступал Станислас Фюме, эссеист, критик и издатель. Он начал свой доклад (“Духовная роль Толстого”) с полемики с В. Познером, требовавшим “отделения Церкви от литературы”, усмотрев в этом призыве “вероломное намерение”. Фюме признал: да, в литературных кругах бытует убеждение, что “религиозные умы” должны заниматься “только тем, Кто на них смотрит” (то есть Богом). Но против такой логики Фюме выдвинул свои аргументы: “Если мир создан, то я предполагаю, что он не совсем независим от Существа, Которое его создало; если Правда есть, то всё зависит от неё, даже её искажение или отрицание. Следовательно, вы не можете потребовать от разума, который верит в высшую Правду, не искать законы этой Правды в художественной либо политической области” (С. 135).
В проникновенной, исповедальной речи французский критик рассказал о том, как менялось его отношение к русскому романисту, которого он некогда “боготворил”. Постепенно он осознал, что приоритет теории у Толстого превращает в камень саму жизнь. “Толстой не отдаётся жизни, не отдаётся любви, ибо и из самой любви он делает обязанность”. «Толстовский натуральный Христос, — говорит Фюме, — имеет источником извращение мистической мысли, свойственное русским и заключающееся в требовании преображения всей природы. Так Достоевский захотел создать “естественного” святого: Алёшу Карамазова. Толстой же “натурализует” — и уже вне области мистики — Христа»5. Вывод доклада Фюме: Толстой “не доверяется Евангелию, он противится сердцу, желающему поступать по воле Бога, он мешает благодати действовать” (С. 137).
Выступающие в дебатах разделились на два лагеря по отношению к религиозности Толстого, попутно вновь разгорелась полемика о совмещении богословского и эстетического анализа литературного текста. Робер Оннер (поэт, романист, искусствовед, эссеист), хотя и принадлежал к католическому лагерю, возразил Фюме, призвав различать тех, кто занимается духовной жизнью, и тех, которые, не будучи духовными лицами, затрагивают религиозные вопросы. Богословы имеют право оценивать литературное произведение, обсуждать, что оно привносит в духовную жизнь; это даже их долг. Но не нужно смешивать духовную и художественную ценность произведения, чтобы не произошло невольное обесценивание таланта художника. Важно, “чтобы богословие, обсуждая духовную жизнь, которая является наиболее значительной стороной произведения, не пренебрегало даром внешнего проявления писателя, его творчества. Художник может написать плохое произведение с прекрасными духовными намерениями. А Толстой смог написать прекрасное произведение, ошибаясь с точки зрения богослова. Мы обязаны различать эти вещи” (С. 148–149). В выступлениях других присутствующих протест против богословской критики Толстого звучал более остро. Известный критик русского зарубежья М. Л. Слоним утверждал: “Хорошо, что он еретик. Нельзя ограничивать художника догмами”. Против использования богословия в отношении художественных текстов вновь возражал Рене Лалу. Он заявил, что богословие гораздо уже литературы, потому что оно интересуется лишь некоторыми сторонами души, в то время как литература обращена ко всему человеку.
Другие же участники, напротив, поддержали Н. Кульмана и С. Фюме. Так, по мнению Н. Бердяева, Толстой “становится рационалистом. Он критикует догмы и таинства Церкви с точки зрения причины”, а отец Лев Жилле подчеркнул: “Отлучая Толстого, Церковь только подтвердила то, что Толстой сделал сам”. Итог этим выступлениям подвёл Кирилл Зайцев: “Духовное творчество Толстого — разрушительное творчество, как явствует из доклада Кульмана ; Толстой не желал тайны, он не желал религии, он был творцом морали, которая отрицала религию и тайну. Это была огромная задача, но результаты оказались опасными и разрушительными” (С. 156).
Следующие собрания, посвящённые А. Жиду и М. Прусту, породили не менее яркие полемики, возникавшие в основном внутри французской стороны. Как интеллектуалы-модернисты послевоенного времени, так и католические писатели, которые видели выход из духовного кризиса в христианском возрождении, упрекали Пруста и Жида “в чрезмерном индивидуализме, расчленении личности путём слишком тщательного психологического анализа и в злоупотреблении в художественных целях трагизмом современного человека”6. В дискуссии о творчестве Андре Жида примечательно столкновение французских участников Мальро и Максанса. Романист и журналист Андре Мальро сочувственно отозвался об эволюции “новых детей века” к левой и светской политике, подверг сомнению ценности “католического возрождения”, в общем приветствуя постепенную деспиритуализацию и гуманизацию творчества Жида. Философ, эссеист, редактор, литературный критик Жан Максанс (лидер молодых католических интеллигентов и последователь неотомизма), напротив, осудил его светский гуманизм и отметил, что в книгах Жида наблюдается фундаментальный отказ от Бога. В ответе Мальро он заявил, что “гуманизм принимает в расчёт только человека, не учитывая бытия Бога” (С. 212).
Отчётливо выразил свою позицию Кирилл Зайцев: “я не люблю Жида; у меня есть антипатия к нему”, и в её основе — “глубокое равнодушие по отношению ко всему тому, о чём он говорит, всему тому, что он чувствует. Жид интересен как художник, и мы можем им восхищаться. Но что касается чувств и мыслей, я ему не доверяю <…> Для меня Жид неискренен. Всё то, о чём он говорит, искусственно. И в этом отношении Жид противоположен Марселю Прусту” (С. 206).
Вечер “Марсель Пруст” дебютировал докладом католического романиста Робера Оннера и был продолжен выступлением православного богослова и критика Б. П. Вышеславцева. Почтительный тон обоих по отношению к “большому романисту” не скрыл их неодобрение тематики и художественного метода Пруста. Противники писателя, главным образом из католического лагеря, разоблачали “опасное” влияние Пруста, “новую психологию”, сродни фрейдистской, которую они резко критиковали как “безбожную” и лишённую христианского гуманизма.
Тезисы выступления Б. Вышеславцева “Пруст и трагедия” заключались в следующем. Если Достоевский глубоко проникает во внутреннюю жизнь человека, в этих глубинах он способен увидеть образ Божий, показать мистическую встречу души с Богом, то Пруст этой проблемой почти не занимается. «Он не затрагивает основ души, оставаясь всегда на уровне психологизма, где его эмоциональная память порождает необычайные образы ; Эмоциональная память абсолютно неспособна схватить правду “я”, так как эта правда выше беглых образов, выше эмоций». У него нет мистической интуиции. «В сущности Пруст не верит в существование этого потаенного сердца человека, этого глубинного центра, этой правды “я”, созерцаемой Толстым, Достоевским и Флобером» (С. 170). Б. Вышеславцев заключил: “Поэзия осеннего вечера — то, что я называю прустским комплексом — нам близка так же, как и французам, нашему поколению интеллигентов, эстетов довоенного времени. Но мне кажется, что прустский комплекс очень опасен и сейчас, и для будущего. Он ослабляет душу, он разрушает мужество действия, он не героический. И я полагаю, что ритм Истории изменился не только для нас, русских, но и для вас, возможно, и для всего мира. Бывший порядок, жизнь довоенного времени больше не существуют. Трагическая борьба происходит во всех областях. И мы нуждаемся в более атлетических, более героических, более религиозных душах, обращённых к будущему и вечности” (С. 171). Марсель Пеги (журналист, эссеист, издатель, сын поэта и философа Шарля Пеги) развил и заострил в дебатах эту мысль: “Пруст для меня — только больной, безвольный человек <…> Я принадлежу к небольшой группе писателей, которые считают, что писатель должен быть здоровым человеком, у которого есть идеал” (С. 183). Жан Максанс сочувственно процитировал слова Ф. Мориака: “Это ужасно, но Бог отсутствует в творчестве Пруста. Мы отнюдь не принадлежим к тем, кто упрекает его за то, что он прошёл через огонь и развалины Содома и Гоморры, однако сожалеем, что он вступил туда, не облекшись в алмазную броню”7.
Б. Вышеславцеву и другим критикам Пруста горячо возражали вступившиеся за французского романиста Марина Цветаева и Юлия Сазонова. По словам Цветаевой, у Пруста есть дар видеть не просто “поверхность вещей”, а “скорбь вещей”; Пруст обрёл свою жизнь в писательстве, тогда как русские растратили её в разговорах. Сазонова возражала против какого бы то ни было сопоставления Пруста с Толстым и Достоевским, с которыми у него нет ничего общего; его концепция искусства абсолютно другая. “У Достоевского и у Толстого были идеи, которые они хотели в своих произведениях передать читателям. Пруст поступал противоположным образом: он хотел показать читателю то, что он видел в мире, он хотел, чтобы в его произведениях читатель сам нашёл правду” (С. 187).
Фигура Шарля Пеги волновала русскую аудиторию, пожалуй, более других французских писателей, обсуждавшихся на собеседованиях. Открывая заседание студии, Вс. Фохт провёл параллели между Достоевским и Пеги: “Один из них нарисовал с непревзойдённой силой мир страстей; другой, кажется, не знает о страстях. У одного было трагическое видение мира; у другого мир и человек виделись оптимистично, лучисто и светло”. Однако есть и точки соприкосновения. “Это — русский мессианизм у Достоевского и французский мессианизм у Пеги <…> Тот и другой были особенно чувствительны к тому, чтó есть человек во Христе и в христианской религии. Оба, Достоевский и Шарль Пеги, — это писатели эсхатологические преимущественно” (С. 455). На связь Достоевского и Пеги указал в дебатах и Анри Массис (эссеист, журналист и литературный критик): Пеги часто выражал в своих книгах ту же мысль, что высказана в романе “Идиот” (“…точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит, такая же точно бывает и у Бога радость, всякий раз, когда Он с неба завидит, что грешник пред Ним от всего своего сердца на молитву становится ; Мысль, в которой вся сущность христианства разом выразилась, то есть всё понятие о Боге, как о нашем родном отце…”8) (С. 501).
Жан Максанс в докладе “Пеги и Событие” обсуждал концепцию католицизма Пеги, в центре которой — тесное соединение материального и духовного. “Для него важна тайна Воплощения, рассмотренная как залог надежды и обещание блаженства, которое является центром всего христианства. Там всё соединено, земля и небо, материальное и сверхъестественное, Франция и христианство. Он отвечает и, кажется, заставляет отвечать Самого Бога на предъявляемые упрёки” (С. 467). Докладчик остановился на книге Пеги “Новый богослов, господин Фернан Лоде” — произведении, где отчётливо видно соединение события и вечного, временного и духовного.
Н. Городецкая говорила в своём докладе о соотношении социального и конфессионального в философии Пеги. При этом вопрос о гуманизме обрёл новые грани. По мнению русской писательницы, “доведённые до крайности, гуманистические идеи ведут к христианству. Никакое образование не возносит человека на такую высоту и не даёт такого центрального места в мироздании, как религия Бога, ставшего человеком. Пеги, который некогда упрекал Евангелие за то, что оно было безразлично к проблеме рабства, понял, что в настоящем христианстве не будет существовать ни рабство, ни королевская власть — но только братство, равенство в любви, в желании жертвы. Мы не находим в Писании решения социальных проблем, но эти проблемы начинают выглядеть иначе, окружаются новыми аспектами, если на них взглянуть с точки зрения Евангелия” (С. 475). Второй момент, отмеченный Городецкой в деятельности Пеги — “восхитительное мужество”, с которым он пытается понять причины дискредитации Церкви. В значительной степени этой дискредитации способствует духовная политика. Городецкая привела цитаты из Пеги, утверждавшего, что “политические силы Церкви были всегда против мистики, именно против христианской мистики”, и что “христианство умирает не из-за научной критики, но из-за нехватки милосердия” (С. 483). Сын писателя, Марсель Пеги, сказал, что его отец — единственный литератор, который связывал христианство с земными вопросами, поэтому его можно назвать и социалистом, и католиком. Друг Шарля, эссеист, литературный критик, издатель Даниель Алеви прокомментировал отход писателя от Церкви и возвращение его в Церковь.
Итоги этого заседания подвёл в своей заметке Г. Федотов: “…Дух Пеги, дух вольного христианства, который совмещает защиту бедности и труда с пламенной любовью к родине, революционизм с классической традицией, всечеловечность с исключительностью и непримиримостью моральных оценок — этот дух подвижника и рыцаря Христова мы хотели бы сделать своим и завещать его русской молодёжи”9.
Одним из самых интересных для русских слушателей стало седьмое заседание (29 апреля 1930). Формально оно было посвящено судьбе послевоенного романа (“Роман после 1918”, Бенжамен Кремье; “Несколько аспектов русского романа после 1918”, Вс. Фохт). Но оба докладчика сразу расширили масштаб темы и подняли его до философско-богословского уровня. Споры возникли вокруг христианского мистицизма и секулярного гуманизма.
Докладчик с французской стороны, романист, эссеист, критик Бенжамен Кремье выступил против неокатоликов, против мистического начала в романе. Католицизм, по его убеждению, есть некоторая “присадка” к человеческой жизни, безосновательны претензии его адептов на всеохватность. Существует широкое жизненное пространство, общее для верующих и для неверующих, и оно не является “католическим”; напрасно провозглашать в этом пространстве презрение к земной жизни и насаждать доктрины. Сейчас, после военной разрухи, революции, надо восстанавливать понятия человека о земном, а религиозные спекуляции о происхождении и конце человечества не столь важны. “Гуманизм, гуманизм и ещё раз гуманизм”, — таким лозунгом закончил свой доклад Кремье (С. 222–223).
Всеволод Фохт остановился в своём докладе на творчестве эмигрантов, преимущественно Мережковского, Бунина, Ремизова, Зайцева, и с одобрением постулировал, что в современной русской литературе присутствуют христианские писатели. “Положение эмигрантской литературы совершенно особое, — сказал Фохт, — она живёт как бы в пустыне, неся факел свободы, потушенный на родине. Заграницей она исполняет особую миссию. Всему миру угрожает материализм; русские писатели должны указывать на пример России, на то, к чему приводит абсолютное преклонение перед материализмом”.
С объёмной речью выступил Борис Зайцев. Он говорил о новых явлениях во французской словесности. Поколение, пережившее войну, привнесло свою ноту. Раньше русские видели во французской литературе главным образом линию вольтеровскую, а нынче замечают новое: например, глубину темы трагедии. Писатели во Франции, по мысли Зайцева, отчётливо разделились на тех, кто “восстанавливает и собирает”, проникая в глубины человеческой души (Бернанос, Мориак, Грин), и тех, кто “расчленяет”, пользуясь микроскопами психоанализа и тонким ядом (Пруст, Жид). По мнению Зайцева, русские писатели эмиграции ближе к молодой французской литературе, чем к советской, где само слово “душа” осуждено, где нет свободы.
Отец Лев Жилле поставил на этом заседании очень серьёзную проблему — языка, на котором возможно выражать духовные реалии. Он констатировал разницу между романом мистического и гуманистического вдохновения. Последний одерживает верх потому, что “гуманистический писатель может говорить. Мистика не может говорить”. Чем больше писатель будет углублять свою гуманистическую концепцию мира, тем более он будет способен её выражать. В современную эпоху “гуманизму свойственно говорить, мистике — молчать”, “мистика не может высказаться”. В качестве примера он сослался на опыт Достоевского, предпринятый в “Братьях Карамазовых”: герои, несущие мистическое сознание, Алёша Карамазов и старец Зосима, вышли “бесплотными”. Достоевский потерпел неудачу, рисуя образ православного старца. “Мистика чувствует себя ближе к реальности, но у неё нет лёгкости гуманиста, чтобы это выразить. Если гуманист может говорить столь реалистично о жизни, то это происходит именно потому, что он никак не соприкасается с Богом” (С. 237).
Подхватывая и оспаривая эту мысль, Рене Лалу прочертил различие между мистикой и гуманизмом: “Надо различать автора и его персонажей. Достоевский не был бы мистическим писателем, если бы только создал образ князя Мышкина. Но он им является именно потому, что во всём своём творчестве он выказывает мировоззрение мистического порядка, потому что его восприятие жизни предполагает мистицизм”. Лалу назвал имена французских писателей, которые вдохновлены католичеством: Бернанос, Жуандо, Мориак и Грин. Но творчество их, как следует из рассуждений критика, не есть отражение вероисповедных доктрин. Мориак является “католическим романистом” только в своих предисловиях, в то время как в своём художественном повествовании “он изучает трагические проблемы, и это характеризует его скорее как моралиста, чем метафизика”. Лалу убежден: “французская литература и большой французский роман в сегодняшней эпохе — исключительно гуманистические, ставят прежде всего задачи человека”, и современный французский гуманизм порождён французской душой и западным разумом, идеалами, которые были общими для Декарта, Вольтера, Дидро и Стендаля (С. 242–243).
Серьёзную философскую атмосферу вечера взбудоражили и отчасти разрядили эпатирующие выступления В. Познера и И. Зданевича. Познер заявил, что в эмиграции русская литература не создала чего-либо выдающегося, а названные Фохтом имена писателей суть “трупы”: “Армия, составленная из стариков и из детей, бесконечно респектабельна, но я сомневаюсь в её воинской боеспособности”. Не успела улечься волна протестов по поводу этого заявления, как слово взял Зданевич, выступление которого стало ещё более скандальным: поскольку страдания и религия, с одной стороны, и талант, с другой стороны, есть разные категории, то пострадавший или верующий писатель вовсе не обязательно является талантливым; русские литераторы-эмигранты — по сути самозванцы. Зданевич, которому не понравилось, что Фохт одобрительно отзывался о “христианских” писателях, обвинил его в “плутовстве”. После возникшей перепалки Зданевича в конце концов лишили слова.
Ближе к концу обсуждения взял слово Вс. Фохт, выступление которого по объёму приближалось к докладу. Центральная его тема — о произведениях мистического и гуманистического вдохновения. Только писатель религиозного вдохновения, католический или православный, способен приблизиться к человеку с его страстями, побудить его к возрождению, к ощущению преображённого Иного Мира, внести в своё произведение этот призыв. Интегральное воссоздание человека возможно именно через христианство, а не через гуманизм, который как раз несёт в себе ограничение, отрицая мистическое.
Фохт привёл слова Мориака о том, что если бы писатель достиг святости, то не написал бы больше ни одного романа10. Любая христианская конфессия требует приближения к святости. Следовательно, любой писатель идёт на компромисс и говорит: “в то время как я пишу, я, возможно, совершаю грех, но я же его и искупаю, поскольку создаю полезное произведение”. Так, персонажи Достоевского нас глубоко трогают своей слабостью, своими грехами, которые близки и нам. “Сговор” между писателем и его персонажами необходим, всё дело в намерении: стремится ли он опорочить или, напротив, возвысить произведение Творца? Писатель подлинно христианского вдохновения находится на такой высоте, что ему нечего страшиться погружения в изображаемые им типы. Следовательно, заключил Фохт, можно быть писателем-христианином, не принося в жертву искусства и не совершая при этом греха.
В рамках Франко-русской студии была затронута и советская литература. Посвящённое ей заседание открыло второй сезон встреч и состоялось 4 ноября 1930 года. Доклад романиста, сценариста, переводчика Андре Беклера “Советская литература и актуальность” был не очень выразительным, значительно больший интерес вызвал доклад поэтессы, журналистки, театрального и литературного критика Ю. Л. Сазоновой “Большие проблемы жизни в советской литературе”. Сделав детальное обозрение советской литературы и основываясь преимущественно на произведениях Зощенко, Катаева, Леонова, она пришла к следующим выводам. В советской литературе (названной ею “литературой отчаяния”) проблема атеизма, или скорее нигилизма соединяется с проблемой смерти, с проблемой человека, лишившегося всех иллюзий, всех религиозных идей и оставшегося только перед своим властителем — смертью. Бог не заменён на престоле обоготворившимся человеком. Иисус Христос, Богочеловек, не заместился человекобожеством, как это случилось во время французской Революции, и религия гуманизма не заняла место христианской религии. Именно об этом одиночестве громко говорит советская литература. Советский писатель рисует зловещий пейзаж мира, из которого удалена идея Творящего Разума. Молодая русская литература в советской России даёт примеры отчаяния, отвращения к жизни, с которыми ничто не может сравниться. Причина этого пессимизма идеологическая и духовная — отсутствие любви. Именно отсутствие Бога и любой духовной идеи, как и отсутствие материального благосостояния, лишает привлекательности земную жизнь в глазах молодых писателей. Ю. Сазонова уточнила, что этот пессимизм не статический, он не переходит в спокойный, холодный скептицизм. Наоборот, он полон темперамента, духовной жажды, пылкого желания обнаружить потерянный смысл жизни. Горячая и искренняя духовная жажда писателей, наиболее любимых в России, таких как Леонов, Зощенко, Катаев, ведут к высшей надежде, к духовному воскрешению.
Состоялся диалог между Сазоновой и оппонентами. Поэт, писатель и журналист, соратник Марселя Пеги Поль Базан говорил об ужасном положении русских писателей, находящихся во власти воинствующего материализма. Но с этим, кажется, они не смирятся — об этом-то и говорят их отчаяние и тревога; и мы не можем утверждать, что Бог полностью уйдёт из их жизни. Ж. Максанс приземлённому гуманизму современной западной цивилизации противопоставил христианский гуманизм Паскаля и Бернаноса, в котором есть “мощь внутреннего возрождения, возрождения литературной темы, намного более глубокой, психологической правды” (С. 313).
Мысли Сазоновой развивал, комментировал и отчасти оспаривал Вс. Фохт: есть огромная разница между стремлением к новой религии и жалобами на развал всех религий. Большая часть западной литературы в этом отношении схожа с советской: она тоже томится, жалуется на отсутствие религии, но она и не желает ничего. А без этого чувства (речь идёт не о вере, а о стремлении к вере) невозможно никакое созидательное усилие, невозможно литературное творчество.
Заседание “Восток и Запад” состоялось 27 мая 1930 года. С докладами на эту тему выступили Н. А. Бердяев и Жан Максанс. В обстоятельном докладе Н. Бердяев излагал свою историософскую концепцию: “Восток — страна Откровения. Бог говорил там с человеком лицом к лицу. Все религии появились на Востоке <…> Запад не породил никакой религии и напрямую не услышал голоса Бога. Запад действительно развил христианскую религию, но он действовал методами цивилизации. Запад — страна цивилизации…” (С. 256). Миссия Запада состояла в том, чтобы “доказывать и развивать принцип человека в культуре, обогащать и совершенствовать человеческую душу, провоцировать напряжение исторической деятельности, вырабатывать формальные принципы для мысли и для творчества” (С. 255). Специфика же восточного делания видна на примере русской литературы, которая есть своего рода отказ от культуры и воплощённый в творчестве эсхатологизм.
Бердяев изложил свои взгляды на христианское творчество. “Культура — подлинное ли бытиё и жизнь? Не является ли она скорее утратой жизни? Не заплачена ли за неё слишком высокая цена, не является ли она изменой по отношению к Богу или по отношению к народу? Есть ли смысл создавать культурные ценности при созидании новой и преображённой жизни?” (С. 258). Такие вопросы, по мысли Бердяева, — чисто русская рефлексия относительно культуры, — той культуры, в которой Запад жил, не ставя её под сомнение. Трагедию, порождённую коллизией культуры и творчества, являют судьбы Гоголя, Толстого и Достоевского. Бердяев с одобрением отозвался о писателях католического возрождения, в частности, о Леоне Блуа, однако существенная часть его выступления была посвящена критике западного гуманизма. Сегодня наступил “период религиозного ослабления Запада, медленного погашения веры, отступничества по отношению к христианскому Откровению” (С. 253). Бердяев призвал к сближению Европы и Востока перед лицом новых вызовов.
Отклики французских участников заседания свидетельствовали о некотором недопонимании мыслей Бердяева — именно здесь заметно ощущалась иная парадигма сознания, о которой он, собственно, и говорил. В дебатах с французской стороны звучала ревнивая защита Запада и Европы, вплоть до отмежёвывания от латинизма в выступлении Марселя Пеги, подчеркнувшего, что французы происходят не от римлян, но являются потомками кельтской расы. Защищая Запад, Максанс утверждал: “Западная, то есть католическая мистика верит в настоящее, она полагает, что весь человек, с его разумом, чувствами, телом искуплён и примет участие в славе ; Даже те, кто выступает на Западе против мистических концепций католицизма, испытывают отвращение к любой чисто материальной цивилизации. Несправедливо представлять Запад оппозицией Откровению, в то время как Запад — культура, которая основана на крещении” (С. 266–267). Потому-то и возможно общение и сближение Запада и Востока, что и на Востоке есть стремление к культуре и цивилизации, и на Западе есть чувство Откровения.
В выступлении Б. Вышеславцева звучала мысль о том, что христианство — это парадоксальный синтез двух потоков: отказа от мира и любви к миру, бегства от мира и преображения мира. Христианство — тот центр, который объединяет западные и восточные пространства. Отец Лев Жилле призывал к тому, чтобы избегать ненужных и бессмысленных противополаганий Запада и Востока, но искать опору в Евангелии: “Восточный интеллектуализм противопоставляется рационализму и материализму уроженцев Запада. Восточная динамичная свобода противопоставляется западному юридизму. Но у нас только одна раса — Христос; у нас только одна культура — Христос; у нас только один учитель — Христос” (С. 280).
Заключительное, четырнадцатое заседание Студии (28 апреля 1931) было посвящено проблемам духовного возрождения. Тезисы прозвучавшего доклада Ст. Фюме “Духовное Возрождение во Франции” изложил в информационной заметке И. Голенищев-Кутузов: «Станислас Фюме говорит о возрождении религиозного чувства во французской литературе второй половины XIX и начала XX века. Невольные ученики Жозефа де Местра, Бодлер и критик Хелло, современники, почти не встречавшиеся друг с другом, каждый по-своему проделали возвратный путь к католицизму. В болезненной страстности и богохульных дерзаниях Бодлера Барбе д’Оривильи справедливо чувствовал мятущийся христианский дух, взыскующий вечные ценности. «После “Цветов зла”, — писал д’Оривильи, — Бодлеру остаётся или стать католиком, или пустить себе пулю в лоб». Ту рознь воображения и действительности (сплина и идеала), которую носил в себе Бодлер, по-новому пережили и Верлен, и Артур Рембо. Не у проповедников, не у официальных защитников католицизма ищет Фюме начало духовного обновления Франции. Но именно у “проклятых поэтов”, которые болезненно отзывались на все явления мира, у отверженных официальной критикой мыслителей, как осмеянный Реми де Гурмоном католический философ Эрнест Хелло и полупризнанный Леон Блуа»11. Одна из парадоксальных мыслей Фюме заключалась в том, что “Бог пользовался поэтами, способными и на кощунства, и на похвалы, чтобы положить начало духовному возрождению”; «гениальные поэты увидели мельком, предчувствовали и смогли выразить различными способами мысль о том, что Бог живой и что “нужно, чтобы Он царствовал”, это подтвердило и необычайное возрождение томизма» (С. 528, 539).
Выступление Г. П. Федотова “Духовное Возрождение в России” явилось по сути кратким очерком истории русской философии, начиная с эпохи славянофилов. Федотов ограничил свой предмет лишь той духовностью, которая проявляется в культуре, не касаясь мистического опыта и святости. По его мнению, Русская Церковь развивала богословскую науку, сохраняла следы допетровской культуры. Но, в отличие от католицизма во Франции, она не приняла никакого участия в научном и художественном творчестве. Этим зиянием и объясняется атеизм интеллигентов. Запад же, который способствовал развалу духовного единства прежней русской культуры, участвует в создании новой духовности (в конце XIX века это влияние немецкой философии и французской поэзии). К началу XX века остатки позитивизма не оказывали больше влияния на интеллектуальную элиту, почти все известные философы присоединились к различным тенденциям православной мысли. “Разумеется, нужно было прилагать большие усилия для христианизации науки и литературы, но стратегические пункты, господствующие позиции были завоёваны. Антирелигиозный идеализм, по крайней мере чистый идеализм, исчезал быстро.” Однако близкому триумфу препятствовал дефект, который разрушал это движение. Этот дефект — в аморализме, в равнодушии к этической проблематике: поблёк образ Христа. В Церковь стремились проникнуть или входом эстетики, или входом философской спекуляции. Вывод Г. Федотова: “Совсем не религия, а религиозная культура потеряна в России” (С. 554).
Вс. Фохт на этом последнем собрании студии подвёл итоги её деятельности. По его словам, собрания позволили лучше понять вклад Франции и России в процесс “духовного накопления мира”. Они вполне выполнили задачу, поставленную при создании студии: “Дать импульс для сближения между русскими писателями, которые оказались во Франции, и французскими писателями, использовать возможность для уникальной встречи двух культур, которые определяют жизнь двух моделей мира” (С. 518).
После завершения работы Франко-русской студии интеллектуальное сотрудничество русских и французов не прекратилось, оно осуществлялось как в литературных салонах, так и на страницах русской эмигрантской и французской периодики, где публиковались в переводах произведения русских и французских писателей. Характерно, что в ходе работы Студии различия национальные оказались заменены оппозицией духовного порядка. Образовалось наднациональное единство “мистиков”, носителей христианской позиции в искусстве, противостоящее “гуманистам”, сторонникам секулярной культуры. Этот феномен европейской жизни рубежа 1930-х годов представляет очевидный интерес, учитывая сегодняшнюю общую угрозу христианским корням европейской цивилизации и нарастающую апостасию.
Параллельно с интеллектуальным, культурным сближением русских и французов, проходившим в рамках студии, осуществлялось и церковно-практическое сближение. Напомним об опыте православного миссионерства во Франции, к которому некоторые участники Франко-русской студии имели самое непосредственное отношение. Речь идёт о создании французского русскоязычного православного прихода12. Приход выделялся теплотой молитвенной атмосферы; вдохновенные проповеди отца Льва Жилле привлекали интеллигентных молодых людей, ищущих духовности. Н. Городецкая привела в него своих соратников по студии — Вс. Фохта и М. Пеги. В свою очередь отец Лев, известный в кругах католических интеллектуалов, принимал участие в заседаниях Франко-русской студии и публиковался в русских изданиях “Путь” и “Новый Град”. Показательны судьбы русских основателей студии. Всеволод Фохт спустя год по завершении её работы направился в паломническую поездку в Иерусалим, из которой во Францию уже не вернулся. Он принял монашество с именем Габриэль (Гавриил) и стал секретарём патриарха Антиохийского в Дамаске, где скончался в возрасте 46 лет в 1941 году. Н. Городецкая пережила своего соратника почти на полвека. Во Франции она продолжила занятия литературой и журналистикой, выпустила несколько романов. В 1934 г. получила место в Оксфорде и переехала в Великобританию, где затем преподавала русскую литературу. Скончалась в 1985 году.
Таков историко-культурный эпизод встречи России и Франции в ХХ веке, где в совместном общении русских и французов сплелись национальные и конфессиональные компоненты, литературные и философские течения. Это был опыт новой солидарности Запада и России, который осуществлялся посредством интеграции их духовного наследия. Этот опыт свидетельствует о возможности и необходимости приложения совместных усилий для адекватного ответа на вызовы секулярного мира уже в XXI столетии.
1Волошин М. А. Собр. соч. Т. 6. Кн. 1. М., 2007. С. 547.
2Стенограммы заседаний студии (на французском языке) опубликованы канадским исследователем Л. Ливаком в книге: Le Studio Franco-Russe 1929–1931 / Textes réunis et présentés par Leonid Livak; Sous la rédaction de Gervaise Tassis. Toronto, 2005.
3Livak L. Introduction // Le Studio Franco-Russe 1929–1931. P. 34.
4Le Studio Franco-Russe 1929–1931. P. 116–117. Далее при цитировании стенограмм ссылки на это издание приводятся в тексте. Перевод с французского здесь и далее мой. — А. Л.
5Салтыков А. По поводу “Встреч” // Возрождение. 1930. 10 июня. № 1834. С. 3–4.
6Livak L. Introduction // Le Studio Franco-Russe 1929–1931. P. 20.
7Цит. по: Мориак Ф. Не покоряться ночи: Художественная публицистика. М., 1986. С. 307.
8Цит. по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 8. Л., 1973. С. 183–184.
9Федотов Г. П. Jean Maxence et Nadejda Gorodetzky. Charles Péguy. Textes suivis de débats au Studio franco-russe. Цит. по: Le Studio franco-russe. P. 584.
10Ср.: “Конечно, хорошо быть святым, но… святые не пишут романов. Святость — это молчание”. — Мориак Ф. Не покоряться ночи. С. 328.
11Голенищев-Кутузов И. “Франко-русская студия” // Возрождение. 1932. 26 мая. № 2550. С. 4.
12Бер-Сижель Е. Первый франкоязычный православный приход // Альфа и Омега. 2002. № 3(33). С. 324–336.

