
Господи, благослови!
Мне хочется начать свои воспоминания о нашей жизни с отцом Глебом его словами, которые я недавно нашла в письменном столе. Амбарцумовы дороги и близки мне. Амбарцумовы, мои родственники по жене, дороги и близки мне. Амбарцумовы дороги и близки мне не только из-за наших родственных, с некоторых пор, отношений. Любовь и уважение к ним уходят в годы раннего детства. В 30-м году родители, взяв меня и Кирилла, поехали к проживающей в Загорске — теперь бывшем Сергиевом Посаде — семье о. Владимира Амбарцумова…
Так мы познакомились с Каледами. День начался так: поехали в Троице-Сергиеву Лавру, посмотрели музей и обратно ехали на извозчике. Я не помню, был ли Александр Васильевич с нами, но Александра Романовна была. Мама, Кирилл и я поехали на извозчике, а Женя и Глеб пошли пешком1. Они бежали где-то недалеко, перегоняя лошадь. И где-то уже по пути близко к дому попалась большая канава. Женя как большой перепрыгнул ее, а Глеб не сумел. Так началось наше знакомство.
Вечером этого дня кто-то из нас (мне кажется, что я, или хочется, чтобы так казалось) сказал: “Как хорошо бы нам всегда жить с Каледами”. Так началось наше знакомство с семьей Калед.
Когда мой папа, отец Владимир, прославленный ныне в лике священномучеников, познакомился с семьей Калед, я не знаю. Это было раньше, потому что Глеб к моменту нашего с ним знакомства был уже его духовным сыном. Он бывал у папы в храме князя Владимира (на Горке, в Старосадском переулке), но как они познакомились, я не знаю. Женя к этому времени тоже бывал в этой семье и был очень близок Глебу. И когда Женя умер (†1969), то Глеб очень переживал. Он говорил, что он потерял не только родного человека, но самого близкого друга.
Еще в Сергиевом Посаде, в ноябре 1933 года, как-то вечером приехал Женя и выпалил: “Умерла Александра Романовна Каледа”. Потом мама ему говорила, что не надо никогда на ночь говорить таких вещей. Значит, у Глеба и Кирилла умерла мама.
В 1933–34 годах зимой мы переехали в Кучино. Там часто у нас жил Кирилл, младший брат Глеба, потому что после смерти мамы его взяли из школы. Туда часто приезжал тоскующий Александр Васильевич с Глебом, с которым мы ходили гулять в лес, много разговаривали. В то время мне хотелось иметь дома какую-то живность, я с ним посоветовалась. Он посоветовал мне завести рыб. С тех пор почти всегда у меня были рыбки.
В 1935 году мы переехали в Никольское. Своей квартиры у нас не было, поэтому мы все время снимали помещения в разных местах. Туда к нам также часто приезжали Глеб и Кирилл, который очень любил кататься на велосипеде, причем после велосипедных гонок возвращался всегда просто мокрым. Мама неоднократно ему грозила, что больше велосипеда давать не будет.
После ареста папы в 1937 году мы с мамой переехали на Восьмую Просеку на той же станции Никольское. Глеб по-прежнему часто бывал в нашем доме, но мы дружили не только с Глебом. Нас было четверо: Наташа Квитко (в замужестве Гоманькова, †1984), Сережа Шик, Глеб и я. Мы все вместе занимались у Александры Васильевны Филиновой (†1969); или мы ездили к ней на квартиру, или она приезжала к нам, и мы все вместе читали и разбирали Евангелие.
После ареста папы я часто ходила в приемную НКВД на Кузнецком Мосту (Кузнецкий мост, дом 3) узнавать, где он и что с ним. Приходилось стоять в очереди, записываться, и через несколько дней идти в кабинет, где сидел человек, который не поднимая глаз смотрел в ящик письменного стола и неизменно говорил одну и ту же фразу: “Ваш папа осужден на 10 лет в особые лагеря, без права переписки”. Этим все кончалось. Где-то недалеко от этого дома меня всегда ждал Глеб. Для меня это были тяжелые походы.
Так проходило время. С Глебом мы продолжали встречаться, но, как мне казалось, он никогда не относился ко мне как к девушке. Для него я была всегда сестрой и самым близким человеком. Это можно видеть по подписям на его фотографиях, которые он мне дарил в течение многих лет. Всегда его подпись была: Сестре, твой брат.
Наступила война. Родители Глеба уехали в Томск, а Глеба как призывника не отпустили. Он остался один в Москве, по-прежнему часто приезжал к нам в Никольское. Когда мама ночью дежурила (она работала медсестрой в комнате матери и ребенка на Курском вокзале), то он ночевал у нас, потому что нам на ночь приходилось уходить в щель, — так назывался ровик во дворе, в котором мы вместе с соседями прятались от бомбежек, которые были каждую ночь в определенное время. Однажды когда мы все вместе с хозяевами стояли в сенях нашего дома, где-то рядом упала бомба. Дом немножко поднялся, и мне казалось, что сейчас он опустится вместе с нами. Но он не опустился, то есть опустился благополучно, и мы все остались живы.
Глеб в то время дежурил в противопожарной охране своего дома и часто во время бомбежек бывал на крыше, где вместе с другими ловил зажигательные бомбы и предотвращал пожары.
В августе 1941 года Глеб был призван в армию. Прощаясь с ним, я проводила его до площади Курского вокзала. С нами был еще Николай Федорович Шмарин, который какое-то время жил у них в квартире. Да, здесь мы с ним поцеловались. Я как-то немножко смущалась, думала, как я буду с ним целоваться при Николае Федоровиче. Но все это получилось как-то спокойно, тихо, и мы расстались. Глеб уехал. На следующий день он ушел в армию и был отправлен на Урал, где проходил подготовку на курсах связистов.
Всю войну у нас была постоянная переписка, причем она была настолько регулярной, что письма мы нумеровали, чтобы знать, какое письмо пришло и какое пропало. В моей старой записной книжке можно найти номера писем, которые я ему отправляла в те годы, и даты их отправления.
Возвращаясь назад, я хочу сказать, что мы с мамой 16 октября 1941 прибежали в Москву. Шестнадцатого октября — это был такой день, когда немцы стояли около самой Москвы, совсем недалеко от того места, где мы сейчас живем (Ховрино). И все бежали. Это был такой день, когда можно было, как говорится, голыми руками взять Москву. Но, слава Богу, святители Московские, празднование которых было 18 октября, спасли Москву, и на другой день уже все опомнились.
В тот день мы приехали в Москву к маминой сестре — тете Тане с дядей Колей на Чистые Пруды, так как решили, что если будут немцы, то лучше уж их встречать вместе с родными. После этого мы остались у них жить. Вскоре маму там прописали. В то время я работала лаборанткой в больнице на Басманной. Вскоре моя подруга Наташа Квитко со своей мамой пригласила меня жить к ним на Пресню. Меня тоже там прописали. Мама часто к нам приезжала, а потом она тоже переехала к ним; ее оформили как домработницу и тоже прописали. Мы жили у них до 1944 года, когда должен был возвращаться из эвакуации дядя Алеша, Наташин папа. Нам стало негде жить. Тогда Сергей Алексеевич Никитин (будущий владыка Стефан, †1963) посоветовал нам переехать на Зубовский бульвар к вдове писателя Чулкова, Надежде Григорьевне и жить с ней, обслуживая ее. Мама стала за ней ухаживать, и мы стали вести с ней одно общее хозяйство. Мы жили в проходной комнате, а в дальней комнате жила Надежда Григорьевна.
Во время войны каждый год Глеб приезжал в Москву. Он служил в ракетных частях на прославленных “катюшах”, которые отправляли в Москву на ремонт. Для их сопровождения в Москву обыкновенно отправляли москвичей. Первый раз он приехал 20 января 1942 года и жил до 25 марта в районе Госпитальной площади. Первый раз мы поехали к нему с Наташей. Они жили в школе. Мы очень стеснялись, кругом было много солдат. Мы осторожненько вошли в дверь и попросили позвать Глеба Каледу. Солдаты нам улыбнулись и очень приветливо побежали искать Глеба. Он пришел, и мы пошли с ним гулять. Оттуда он уехал воевать на Волховский фронт. В апреле 1942 года до июня того же года Глеб жил в палатках где-то между Гиреевым и Лосью. Я ездила туда вместе с мамой и Наташей Квитко. Мы часто его навещали, привозили какие-то продукты, но самое главное, общались. Оттуда он уехал на Центральный фронт, под Сталинград.
В марте 1943 года Глеб опять приехал в Москву и жил на военном заводе за Серпуховской заставой. Там мы его опять посещали. Так что мы каждый год виделись. С апреля по май 1944 года он жил на Воробьевых горах. Поезд его стоял около Новодевичьего монастыря, на запасных путях. Это было около моего института (я училась в педагогическом институте на биологическом факультете), и поэтому я каждый раз после экзамена или после консультации бегала к нему. Пятнадцатого июня, в день Троицы, я пришла туда, но Глеба не было. Он позвонил нам, что находится где-то за Курским вокзалом и уезжает на фронт. Мы бросились туда с мамой и тетей Шурой, и почти в последний момент (опять было много поездов, все составы полны солдат) с большим трудом нашли его поезд, и когда поезд уже тронулся, он прыгнул на площадку и уехал на фронт в последний раз.
Во время войны Глеб все время учился. Он все время таскал с собой учебники, кончил заочные курсы немецкого языка. В дальнейшем мы устроили его на заочное отделение Института цветных металлов. Мы все время посылали ему на фронт учебники. Сначала его начальство протестовало, что он занимается, таскает учебники (у него и так тяжелая была поклажа — радиостанция), но в дальнейшем с этим смирились. И к концу войны уже было даже так, что кто-то из начальства приходил и говорил: “Глеб, тебе надо заниматься. Пойдем дежурить по части”. Они шли вместе дежурить, полночи дежурил и занимался Глеб, полночи за него дежурил у радиостанции дежурный офицер.
Вскоре после Дня Победы я получила от Глеба открытку. На ней весна, улица, цветущие фруктовые деревья. Было написано: Лидочка, с миром! Окончание войны совпало с Красной Горкой, словно Он восстал, чтобы сказать: “Мир вам!”. Это совпадение как-то очень… Ты понимаешь меня, ибо вероятно переживаешь то же. Радуйтесь празднику Неба и празднику Родины. Пусть будет весна — весной. Целую, твой брат Глеб. 9 мая 1945 года.
Война кончилась. Эта неделя у нас совпала с Пасхой. Пасха была 6 мая, и 8 вечером мы собирались у Квитко на Пресне. Я в это время уже жила на Смоленском бульваре, а Шики, Маша и Дима, жили на Зубовском бульваре. В конце войны мы пообещали друг другу, что как только объявят окончание войны, мы сразу опять соберемся вместе и пойдем куда-нибудь гулять. Но, к сожалению, у нас дома не было радио. Соседка нам только утром сказала, что объявили окончание войны.
Наступил долгожданный День Победы. Мы все помчались на улицу. На улице было страшно много народу. Все ликовали. Говорили, что будет салют в 101 залп, что надо будет закрывать окна, потому что стекла могут вылететь. Почему 101? Да потому что Петровский салют. Петр когда-то велел стрелять 100 раз, но ошиблись и выстрелили 101. Я пошла к Маше, которая в это время была на Смоленском бульваре около метро “Парк культуры”. С ней мы вышли на улицу и пошли гулять по городу. Салют должен был быть часов в девять. Но когда мы вечером уже шли по Арбату, вдруг раздался салют. Мы так испугались, что это салют Победы… оказалось, что это еще был салют в честь какого-то взятого накануне города.
На Красной площади было очень много народу. Там мы даже увидали очередь из генералов, которые стояли около Спасских ворот, чтобы попасть в Кремль на прием; наиболее крупные генералы проезжали на машинах, а остальные стояли в очереди. Потом начался этот грандиозный салют. Казалось, что стреляла вся Москва, все небо было в фейерверках, все радовались, все рукоплескали. Уже поздно вечером мы пешком какими-то кружными путями добрались до Машиной квартиры на Крымской площади, а я доплелась до дома на Зубовской. Так закончился для нас долгожданный День Победы.
Но, к сожалению, в это время продолжали приходить повестки о том, кто убит. Пришло известие о том, что Кирюша Каледа погиб 30 марта 1945 года где-то в Европе, ведя в бой свое подразделение. Попалось одно его письмо, где он так героически стремился в бой. Глеб его охлаждал и писал, что все далеко не так романтично — сырость, грязь, мокрые окопы и кровь – “отдай свою душу в руки Господа и доверься Ему, и все будет хорошо”. Кирюша погиб в первом бою, налетев на минное поле. Александр Васильевич очень переживал его смерть. Я уже давно не получала писем от Глеба и в этот день получила письмо к вечеру.
Мне позвонила тетя Шура и сказала, что Кирилл погиб, Александр Васильевич в очень тяжелом состоянии, он переживает, что нет писем от Глеба. Я говорю: “А у меня письмо от Глеба”. “Поезжай сейчас же к ним, поезжай сейчас же к ним!”. Я засомневалась: “Куда же я поеду так поздно? Я приеду часам к десяти”. — “Нет, ты поезжай, поезжай!”. Я приехала, мне открыла изумленная тетя Женя. Она была очень рада, что я привезла письмо от Глеба, что Глеб жив. Потом мы Кирюшу отпевали в Обыденном. В главном приделе поставили канон, мама сплела из незабудок веночек и повесила его на крест, который на каноне. А тетя Женя тихонечко про себя отпела своего приемного сына Мишу, который тоже пропал в войну. Итак, из большой семьи Калед остался один Глеб, который прошел всю войну. Остальные трое детей погибли. Машенька в эвакуации упала с качелей, погибла, Миша, приемный сын тети Жени, пропал без вести, а Кирюша погиб в Европе.
Глеб по своему характеру был человеком очень замкнутым, внешне одиноким и очень ранимым. Конечно, такой характер мог сформироваться и от его семейной жизни; ведь, потеряв в 12 лет любимую, очень близкую по духу мать, Глеб остался один. Отец в это время как-то отошел от Церкви. Он был крупным экономистом, был увлечен работой в Центральном статистическом управлении (ЦСУ), но от Церкви отошел, не переставая быть верующим. Глеб с мамой были церковные люди. Его мама была очень духовным человеком; умирая, в полусознательном состоянии, она читала наизусть Евангелие от Иоанна. Когда один из друзей спросил ее, как это случилось, что Александр Васильевич, в молодости глубоко верующий человек, стал таким индифферентным, она сказала: “Вы не понимаете, что он прошел школу Егоровщины”. Был такой в Петрограде священник Егоров, о смерти его и судьбе Александр Васильевич никогда не говорил, но это, видимо, было что-то похожее на обновленчество. Надо сказать, Александр Васильевич и Александра Романовна в молодости были близки с Александром Введенским, пока он еще не ушел в обновленчество, и Введенский даже крестил Глеба. Потом, когда Введенский начал уклоняться в обновленчество, Александр Васильевич это почувствовал и на одном собрании, которое тот проводил, прислал записку Александре Романовне, чтобы она ни на что не соглашалась и уходила. Так они порвали с Введенским.
Глеб потерял маму, он остался один. Духовной матерью ему стала Александра Васильевна Филинова — тетя Шура. Она его очень поддерживала. Она была глубоко верующим, всегда православным человеком, бывший член христианского студенческого движения, которое возглавлял мой отец, философ. Александр Васильевич после смерти жены очень скоро женился. Евгения Павловна, на которой он женился, любила его давно и думала, что он на ней женится еще в молодости. Тогда помешали некоторые обстоятельства. В годы гражданской войны он был направлен в Уфу, снабжать голодный Петроград продовольствием, позвал ее туда. Но она не могла поехать туда, так как у нее мама была больна.
Тетя Женя всегда любила Александра Васильевича, ждала его как бы. Ей очень хотелось иметь ребенка, и в 1925 году она взяла на воспитание мальчика Мишу, прямо из роддома. В то время она преподавала в Питере в какой-то школе. Но вскоре в этой школе случилось ЧП (ее, кстати, возглавляли бывшие дворяне): кто-то из учеников выстрелил в портрет Сталина. Школу разогнали, и Евгению Павловну, молодую учительницу, вызвали куда следует и предложили убраться из Питера в таких-то направлениях; в каких, она даже не знала. Посмотрев на карту, она ткнула пальцем. Палец попал в Воронежскую область, в село Гавриловка. Собрав ребенка, в считанные часы она с мамой уехала в это самое село, где стала преподавать в местной школе.
Когда умерла Александра Романовна, тетя Женя на следующий год пригласила мальчиков к себе в деревню, где они прожили целое лето. Там был большой фруктовый школьный сад, который, как она рассказывала, они быстро ободрали. Затем туда приехал и Александр Васильевич. Через какое-то время они поженились. Это было естественно, она любила Александра Васильевича, Александр Васильевич тоже ее хорошо знал. Мой папа приветствовал и благословил этот брак.
Но получилось, конечно, очень сложно. Комната двадцать восемь метров. В ней живут: Александр Васильевич, тетя Женя, как ее все звали, Кирилл и Миша, одновозрастные, но совершенно разного характера мальчишки. Кирилл был живой, энергичный, страшно любил драться. Иногда он умолял Глеба: “Подерись со мной”. А Миша был тоненький, худенький, но очень острый на язык мальчик. Он писал стихи (они сохранились в наших архивах), мог написать едкую эпиграмму. Они, мягко сказать, не очень дружили, но зато здорово дрались. Тут же еще оказалась мама тети Жени (Наталья Николаевна, если я не ошибаюсь). Глеб сразу как-то стал очень самостоятельным, перестал говорить, куда и зачем он пошел.
После смерти мамы Глеб в течение года не учился, в связи с чем школу окончил на год позже меня. В этот период он достаточно окреп, в зимнее время много ходил по Подмосковью на лыжах. Кто-то из врачей сказал тете Жене, что детей у нее не будет. Но вскоре она забеременела, чему была очень счастлива. Ее, правда, тут же немножко огорчили (но она не огорчилась), что она родить не сможет, и ей должны будут сделать кесарево сечение. Она была готова на все, лишь бы только у нее был ребенок. Ребенок этот родился в 1939-м году. Родилась Машенька, или, как они ее звали, Мирочка. Она родилась ослабленной; во время беременности тетя Женя перенесла грипп, возможно, в связи с этим ребенок был очень плаксивым. Ее часто приходилось укачивать на руках — и все это в 28-метровой комнате. После того как в начале войны они эвакуировались, как я уже говорила, Глеб остался один. Потом Александр Васильевич через какое-то время (может быть, через год, через полтора) вернулся из Томска, а семья осталась там. К этому времени Мирочка погибла, упав с качелей. Александр Васильевич очень скучал без семьи и часто бывал у нас на Пресне, иногда даже ночевал.
К концу войны из эвакуации вместе со своей мамой вернулась тетя Женя. Они получили несколько участков земли (в это время все занимались посадкой картошки, потому что надо же было жить) и часто меня приглашали к себе. Я ездила с ними сажать и выкапывать эту картошку. Эти участки были где-то на Луговой, по Савеловской дороге. За это Александр Васильевич давал нам свою карточку на картошку. Карточки-то тогда были разные, были рабочие, служащие, а потом были всякие литера: литер А, литер Б, — “литераковцы”, “литербэковцы”, и “никаковцы”, как тогда называли. По своим “литерам” Александр Васильевич имел право получать еще 10 кг картошки; эту картошку он отдавал нам с мамой, а кроме того, когда мы собирали урожай, нам, конечно, еще немножко перепадало этой картошки.
В июне 45-го года Институт цветных металлов вызвал Глеба на сессию. Его отпустили. Приехал он в Москву 26 июня и стал интенсивно заниматься, чтобы сдать экзамены за первый курс. Заниматься ему было трудно, он был утомлен войной и всем пережитым. От переутомления у него часто болела голова, ему было трудно сосредоточиться, нарушился сон.
Тетя Женя его отвела к своей знакомой, которая работала в одной из московских больниц (забыла сейчас, как ее звали, ее близкий друг). Она дала ему направление и его положили в больницу. Врачи отнеслись к нему очень хорошо. Они поняли, что раз война окончена, ему надо учиться, и его освободили от армии, дали “белый билет”. Так Глеб остался в Москве.
Но в Цветмет он не пошел, хотел пойти в университет, а там его встретили очень недоброжелательно, заявили, что такие не нужны. К этому времени вступительные экзамены были уже окончены. Он пошел в Московский геолого-разведочный институт (МГРИ), где его приняли без всяких экзаменов.
Когда Глеб вернулся после войны в Москву (в это время мама тети Жени уже умерла, Александр Васильевич остался с тетей Женей вдвоем), он привез из Минска свою бабушку Викторию Игнатьевну, мать Александра Васильевича. Александр Васильевич когда-то говорил, что ему очень хочется, чтобы мама была у него. В Москве, когда они вышли из поезда, он понес вещи, а ей сказал: “Иди!”. И она пошла. Каким-то образом она прошла этот кордон, который потом задержал Глеба для проверки документов. Когда затем он оглянулся, бабушка была где-то уже впереди. Она чудом прошла, так как документов у нее не было. Потом с большим трудом ее прописали; Глеба вызывали в паспортный стол, ее чуть ли не гнали обратно в Белоруссию, а Глебу говорили, зачем привез сюда старуху, которая была у немцев. Умерла она в 1952 году, когда ей было уже 93–94 года, точно не было известно, сколько ей лет; по паспорту было столько, а на самом деле, говорят, больше. Вот тут получились новые трудности, потому что тетя Женя не могла с бабушкой сжиться, она была недовольна, что бабушку привезли. Отец Александр Ветелев, который в это время стал их духовным отцом, чтобы дома было мирно, благословлял Александра Васильевича снимать дачу. Тетю Женю чуть не с апреля по сентябрь включительно отправляли куда-нибудь на дачу, и Александр Васильевич к ней туда ездил. Надо сказать, что после смерти Мирочки оба они, Александр Васильевич и тетя Женя, вернулись в храм. Тетя Женя каким-то образом вышла на отца Александра Ветелева, который, по-моему, служил в это время в храме Пимена Великого.
В этой обстановке Глеб, когда вернулся с фронта, почувствовал себя лишним и стал сторониться семьи. Тетя Женя была вполне счастлива — наконец-то Саша стал ее (хотя Александр Васильевич очень любил Глеба, но его любимым сыном был Кирюша). Я-то думаю, что Глеб в этой обстановке многое преувеличивал. Тетя Женя была очень благоразумным человеком. Я никогда не говорю, что она мачеха Глеба; она не была мачехой, но все-таки не была детям той матерью, которой для меня стала моя крестная — Марья Алексеевна Жучкова.
Глеб часто к нам приходил, мы ходили вместе с ним в храм Ильи Обыденного, в который мы с мамой начали ходить примерно с 1944 года. Когда служба кончалась, мы обыкновенно шли пешком переулками до Каретного ряда, где мы с ним прощались, и на Садовой он сажал меня в троллейбус, и я ехала домой, а сам он по Новослободской ехал к себе домой.
Глеб с увлечением и очень успешно занимался в геолого-разведочном институте. Летом он обыкновенно уезжал в экспедиции в Среднюю Азию. Выбор этого региона для геологических исследований связан со стремлением бывать в Ташкенте, где служил его духовник архимандрит Иоанн (Вендланд), который был секретарем епископа Гурия. С архимандритом Иоанном Глеб познакомился в Троице-Сергиевой Лавре. Тетя Женя познакомила Глеба с наместником Лавры архимандритом Гурием, которого она знала по Петербургу, где занималась у него на богословских курсах. А архимандрит Гурий передал его архимандриту Иоанну, который был геологом. В 1946 году отца Гурия посвятили в архиереи и отправили в Ташкент. Таким образом желание Глеба работать на севере изменилось; он решил, что будет работать на юге для того, чтобы видеться со своими духовными руководителями. Каждый год, обыкновенно с Дмитрием Петровичем Резвым2, он уезжал в Алайские горы и Алайскую долину, которые очень полюбил. Он всегда ездил через Ташкент, где встречался и с владыкой Гурием, и с архимандритом Иоанном.
Глеб хорошо учился, он уже на втором или третьем курсе получил сталинскую стипендию, это было 800 рублей, по тем временам очень большие деньги. Причем интересно, что и преподаватели и студенты решили, что именно он должен получить сталинскую стипендию. Он был значительно старше всех по возрасту, там было много студентов прямо из школы. Но секретарь комсомольской организации сказал, что если Глеб прошел войну и не был ни пионером, ни комсомольцем, за этим что-то стоит. Общественность все-таки победила, и Глеб получил сталинскую стипендию.
Глеб зарабатывал хорошие деньги; часть отдавал в семью, часть откладывал. Регулярно помогал мне, давал рублей по сто, потому что мама моя была в это время больна. Я работала лаборанткой, получала 880 рублей, мама пенсии никакой не получала, поэтому нам было жить очень трудно. Глеб помогал нам и помогал другим, но вот в своей семье был каким-то очень одиноким.
Он мне всегда был братом, и для него я всегда была почти самым близким человеком. Об этом можно судить по письмам (писем этих целая коробка, хватит и правнукам и праправнукам разбирать). В одном из них он несколько раз пишет мне, — подчеркиваю, только мне, о том переживании заутрени, которое было у него однажды, еще до войны. И второе, опять только мне, в котором он описывал свое отношение к ровикам, которые рыли солдаты для укрытия.
Вот эти письма:
(1) Письмо о. Глеба.
Я помню наше условие. На днях стал читать, как открылось. Это была 14 гл. Мрк. И. Х. Сам показал нам, как мы должны молиться: “Авва, Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, но чего Ты”. Это образ молитвы для всякого христианина в решительные моменты его жизни, в моменты крутых поворотов его судьбы. Обрати внимание, что это место открылось само. Если можно, то я не поеду на фронт. Да будет воля Отца! Человек наделен в известных пределах свободной волей. Это и ответственность большая (иногда даже страшная), и счастье.
В театре крови я буду являться одним из важнейших винтиков (радист, через которого проходят все команды) машины убийства (скажи, где правые, где виноватые?). Смерть. Нам, простым людям, конечно, хочется жить, особенно молодежи, но разве так уж важно долго жить; разве смерть близкого человека, тяжело переживаемая всеми нами, не приоткрывает слегка дверь в другой мир? Помнишь, кн. Марья и Наташа, когда умер кн. Андрей, плакали не от горя, а от умиления перед простым, но торжественным и глубоким таинством смерти. Первые христиане на похоронах одевали голубые одежды как символ вечности.
В 39 году я был в Пасхальную ночь в церкви. Как всегда, было много народа, и еще до заутрени многие выходили через боковые двери на улицу. Многие стояли, ожидая чего-то радостного и великого. И вот из глубины храма раздалась торжественная, поющая о победе песнь: “Христос воскресе из мертых…”, и десятки, сотни людей через несколько мгновений подхватили ее, охваченные единым чувством восторга и вдруг проснувшейся любви, и песнь эта взлетела под высокие своды храма, светлая и прекрасная. Радость, которая до этой минуты таилась где-то в глубине сердец, вырвалась наружу, осветила и наполнила душу неизъяснимым счастьем.
“Христос воскресе!” носилось по ночному храму, слышалось за его пределами и улетало в таинственную высь. Было тесно и душно, но из глаз юноши, что стоял возле меня, исходил свет счастья. Мы понимали, что телесные невзгоды — ничто перед радостью Пасхи.
Вот меня сдавило волной толпы, я не мог дышать, и ребра, казалось, еще минута — сломаются. “Ведь в этой тесноте может прекратиться моя земная жизнь” — подумал я, но новое чувство наполнило мою душу; я ощутил бессмертие. В случае телесной смерти, чувствовал я, я поднимусь под высокие своды храма, куда взлетают слова, говорящие о победе Христа над смертию, о вечности жизни.
Это реальное ощущение бессмертия и краешка потусторонего является самым ярким и сильным воспоминанием моей жизни, вызывающим во мне прилив радостных чувств. Чтобы понять, что я пережил в ту минуту, надо самому пережить ее. Но смерть на Пасхе это совсем другое. Мне хотелось бы только не умереть за “работой”. Пусть лучше страдание. Мое желание ты, конечно, понимаешь. Я просил бы тебя это письмо, особенно где я пишу о Пасхальной ночи, сохранить между нами. Мне слишком (очень) дорога эта ночь.
Москва, февраль 1942 года.
Письмо № 2 (12)
“Плачь, если в то время, как тебя уносит поток времени, ты не несешь с собою вечности!”
Это одна из цитат, которыми начинается твое, Лида, письмо № 18, полученное мною сегодня. Его я получил утром, когда занимался математикой, начал только писать, приказ — вперед. Взяли на плечи радиостанцию и пошли.
Мы Его последователи. Сказано не “не волос с головы человека”, а “вашей”. Судьба наша слагается несколько иным образом. Нам надо отдать себя Его воле — и только. Что нам опасность? Разве наш дом здесь? Разве не мы поем: “не убоимся ужасов в ночи, стрелы летящей днем”. Неужели и здесь мы далеки от слов песни. “Падут тысячи и тьма одесную тебе”. О как это все справедливо! На войне личным опытом все это постигнуто.
Буду откровенен с тобою в том, в чем мне обычно невозможно признаться, стыдно как-то. У меня есть глубокое ощущение, что для меня лично не нужны ровики, ибо то, что будет со мною, совершенно не зависит от них. Оно очень глубоко и прочно. В них не ощущаю потребности. Ровики, конечно, рою, ибо приказывает начальство и неудобно уклоняться от работы, когда работают товарищи. Разве нет у нас Сильнейшей защиты? Не думаю, конечно, что я бравирую. Я помню: “не искушай Господа”. И бессмысленное бравирование как раз и будет искушением Его. Макаров говорил, что во мне самообладания и спокойствия в опасности больше, чем у кого-либо другого во взводе. Шофер Майеров передавал, что они не раз, разговаривая между собою, отзывались обо мне как о самом спокойном радисте. Я не хвастаюсь, ибо все иначе не может, не должно быть, в этом нет и капли моей личной заслуги. Все дело в том, что я обладаю ощущением своей защищенности. Почему я пятого числа испытал чувство не страха, а прилившейся бодрости. Как ты это объяснишь с общественной точки зрения? Я хочу, чтобы ты прониклась этим. Ведь слово “более опасно”, точно сохранность свою мы будем измерять тем, сколько осколков падает в разных местах на квадрат площади, а не Его Волею, свою защищенность — сделанным нашими руками ровиком, а не своей верностью, не своим желанием Его воли над нами. Последнее, самое главное, что своими добрыми делами мы не сохранимся, ибо грехов во много раз больше их. Да, увы, их бесконечно больше. Пусть будет это между нами; о таких вещах не говорят, да и немногие поймут. Мои домашние тоже. Потом тут много очень сокровенного для меня. Ты пишешь — убит Дима. Я не знал его лично. А помнишь, что писала и говорила мне о Коле П. Ведь его судьба не противоречит вышеприведенным цитатам и написанному. Я, правда, не знаю, что испытывал он. Что нам опасность! Наш дом не здесь. Мы поем: “не убоимся ужасов ночи, стрелы, летящей днем”. “Долготою дней насыщу его”. Почувствуй это ты, Лидочка, и как-нибудь постарайся это хоть в некоторой степени передать нашим, моим, папе. О письме не говори. У папы: “все-таки война, фронт, кто знает”. Я говорил уже об условиях этого письма. …..
С приветом. Твой брат Глеб. 30–31. 8. 44 года
У него была такая совершенно твердая вера, поэтому он и остался, конечно, жив, пройдя всю войну и попадая в такие тяжелые обстоятельства, когда другие, даже офицеры, удивлялись, каким чудом он остался жив.
На фронте Глеб в трудные моменты всегда был спокоен и рассудителен. Он был начальником радиостанции в дивизионе гвардейских минометов. Начальство всегда на него могло положиться. Как-то был случай, что один молодой офицер, впервые попав в тяжелую обстановку, потерял самообладание. Потом старшие офицеры ругали Глеба: “Ты старший (а он же просто радист), ты должен был как-то на него повлиять”. Надо сказать, что Глеб не стремился к званиям. После окончания с отличием школы радистов ему присвоили звание сержанта, однако уезжая на фронт, он специально не стал получать об этом документы. Его несколько раз пытались посылать на офицерские курсы, но он всячески отказывался, потому что хотел вернуться на “гражданку” и учиться, а не быть военным.
Еще до войны, когда нас дружило несколько человек, мне в голову не приходило, что я когда-нибудь выйду замуж за Глеба. Он был мне настоящий брат. К сожалению, до войны у меня не сложилось братских отношений с моим братом. В последующее время нашей жизни, когда он стал священником, мы стали очень близки. В начале 30-х годов папа забрал его из Сергиева Посада, и он вместе с папой скитался по Москве. В институт он долго не мог поступить, потому что был лишенец. Он работал в какой-то лаборатории, проверял какие-то измерительные приборы. Женя вообще по существу исчез, потому что с 1936 года он стал учиться в институте, а жил на то, что давал уроки. Надо отметить, что Женя учился на филфаке, а уроки давал по физике и математике. Вот такую подготовку по физике и математике ему дал отец, на это он жил. По существу он к нам почти и не приезжал. А потом он вскоре познакомился с Таней, и в 1939 году они поженились, и вообще отошел.
Перед войной у меня был друг, который меня провожал, с которым мы были близки, но по-другому, то есть, я была для него девушкой, а он был молодым человеком. Когда началась война, его родные уехали в эвакуацию, он мне говорил, что я для него самый близкий человек, и я думала выйти за него замуж. Но он эвакуировался вместе с университетом и там женился. Он поставил меня в несколько глупое положение. Хотя мы обещаний друг другу никогда не давали, мы с ним переписывались, я ему писала о том, что тут происходит, он мне на это все отвечал. Может быть, он подписывался: “Твой …”, а я подписывалась: “Твоя Лида”, я не помню. Но если б он мне написал, что он женится, то я бы не стала ему писем писать вообще, ну, может, поздравила бы его с праздником. Я продолжала писать, а только потом, уже где-то в конце войны, вдруг я получаю от него письмо, что он женился и просит у меня прощения. А за что? Значит, было что-то. И очень хочет, чтобы я подружилась с его женой и повлияла на нее в некотором отношении. Для меня это было тяжелым ударом. Ну, я в общем-то, конечно, была нормальной девушкой, еще в школе в кого-то там влюблялась, кто-то меня провожал, с кем-то я ходила домой. В дальнейшем, когда во время войны я работала в Немчиновке, недалеко стоял строительный полк, где был очень приятный, интересный офицер, намного меня старше (он командовал этим стройбатом, а я летом была заведующей столовой). В Немчиновке был большой институт зернового хозяйства. Из нас, студентов, сделали одну директором, а меня — помощником директора столовой, чтобы поменьше воровали. Я даже, к сожалению, забыла имя этого офицера. Мы с ним очень хорошо проводили время, вечерами гуляли. Он был очень деликатен и никаких вольностей себе не позволял. Мне было с ним хорошо. Потом он провожал меня до Москвы. Как-то я один раз даже к нему ездила, но на этом наше знакомство кончилось. Он мне потом прислал письмо, что, к сожалению, он намного старше, и наше знакомство с ним кончилось.
Глеб у нас был человек, который не признавал влюбленности; было ощущение, что для него совершенно безразлично, кто с ним рядом идет, “юбка” или “брюки”. На него это не действовало совершенно. Сколько девчонок в него влюблялось, чуть ли не делали ему предложения, он всех их молча отваживал.
Мое же отношение к нему к концу войны несколько изменилось. Я уже полюбила в нем не только брата, а большого друга. И конечно, когда после войны мы с ним гуляли, мне все казалось, что, может быть, он сделает мне предложение, и мы поженимся. Но Глеб продолжал учиться, ему было не до этого. На семейную жизнь, как потом мы с ним выяснили, он смотрел как на серую сторону своей жизни. (Впрочем, через год после свадьбы он уже по-другому рассуждал). Ему было не до этого. Учиться ему было нелегко, потому что были различные инженерные и другие лишние предметы, которые ему были тяжелы. Собственно геология его очень интересовала, увлекала. Из геологических экспедиций он возвращался обыкновенно уже поздно, чуть не к самой сессии (его уже как-то были готовы выгнать из института за пропуски).
У нас дома он бывал очень часто. Обычно мы всегда с ним вместе ходили к Пасхальной заутрене. Правда, однажды было такое: он сказал, что не пойдет со мною к заутрене (я не помню, это была вторая или третья заутреня после войны), что он хочет с папой пойти. Но у них произошло какое-то разногласие, и Глеб один был у Обыденного, и к нам он даже не подошел. Ночью один гулял по Москве, и даже подходил к нашему окошку. Я его спрашивала: “Господи, что ж ты не пришел?”. Но он посмотрел через окно, как мы там сидим, потом пошел на пристань, и так всю ночь провел один.
В это время у них в доме появились Зиновичи, с которыми очень подружилась тетя Женя. После войны тетя Женя решила поступить на курсы немецкого языка, где она познакомилась с Валентиной Григорьевной Зинович, которая была преподавательницей. Правда, окончив эти курсы, тетя Женя попала в санаторное отделение больницы имени Ганнушкина, — видимо, немножко не по возрасту ей была эта нагрузка. Но она очень подружилась с Валентиной Григорьевной и с ее младшей сестрой Любовью Григорьевной; одна была преподавателем немецкого, другая — английского языка. Они стали друзьями, она их называла девочками, они часто бывали в доме. Тете Жене казалось, что для Глеба самой подходящей партией будет Любочка.
Тут Глеб совершил некоторую ошибку, потому что привык со всеми общаться совершенно просто. Он несколько раз обращался к Любочке по поводу английского языка. Любочка, видимо, стала к нему неравнодушна, но когда выяснилось, что со стороны Глеба ничего нет, было некоторое потрясение, даже говорили, что у нее из-за неразделенной любви возник туберкулез. В общем, Глеб таким своим отношением вселял в некоторых надежды. А тетя Женя вообще заявляла, что она примет только Любочку и никого другого.
Я уже упоминала, что Глеб у нас бывал часто, и мы нередко занимались с ним фотографией. У нас в доме была темная комната, где стоял фотоувеличитель и другие необходимые принадлежности. Он делал свои экспедиционные снимки и другие фотографии… но главное, была темная комната, в которой мы сидели. Для меня было, конечно, очень приятно сидеть с ним рядом, но у нас были еще соседи — Надежда Григорьевна, ее золовка Анна Ивановна и Надюша, теперешняя тетя Надя, а тогда студентка. Все видели, что мы сидим в темной комнате, и мама стала беспокоиться. “Как-то нехорошо, что вы там сидите одни”, “что могут другие подумать”, и так далее… Правда, Анна Ивановна, немножко разобравшись в Глебе (к нему хорошо всегда относилась), говорила: “Ну вот, сидят же там в темноте, но он даже не догадается ее поцеловать!”. Это был конец 40-х годов. В это время мама начала немного настороженно относиться к Глебу; ей стало казаться, что Глеб от меня отходит, и она мне стала об этом говорить: “Глеб отходит, и, наверное, он не собирается на тебе жениться… В общем, это некрасиво, нехорошо это, вот вы так много вместе бываете”, и так далее, и так далее… Положение складывалось довольно сложное.
Почему-то на Новый 1951 год Глеб мне сказал, что он не сможет прийти к нам. Я пошла к отцу Александру Толгскому, настоятелю храма Илии Обыденного (†1962), и стала ему объяснять, что вот у нас складывается непростая ситуация, мама протестует против наших встреч, а Глеб молчит. Он знал меня и знал Глеба. Я спросила, что мне делать вообще? Он сказал просто: “Возьми и поговори сама с ним, раз у вас получается такая обстановка. Я тебя благословляю”. А в этот день, когда он мне это сказал, Глеб был в Лавре и отправлял письмо архимандриту Иоанну (Венланду), в котором спрашивал его благословения, что ему делать после окончания института, становиться ли монахом или жениться. В то время, когда я разговаривала с отцом Александром, Глеб отправлял это письмо.
И вот, второго января я решаюсь. Я была дома, что-то делаю, неожиданно раздается звонок. Мне звонит Глеб. А я ему говорю: “Знаешь, тебе нужно от меня получить вот эту книжку. (То есть именно ему как будто нужно, это он меня как будто вызывает). Вот я сейчас приеду, где нам с тобой встретиться?”. Он не сразу понял, в чем дело, но сказал, чтобы я приезжала. Маме я сказала, что мне нужно отвезти Глебу книжку. По-моему, мы с ним встретились у библиотеки Ленина и пошли гулять по переулкам. Я ему рассказала свой разговор с отцом Александром, что он благословил меня с ним поговорить о наших взаимоотношениях. Это был день иконы Божией Матери “Спасительница утопающих”. Я была утопающая и спасала сама себя. А Глеб мне сказал, что он послал письмо и будет ждать благословения на брак или на что-то другое.
Шестнадцатого числа ответ был написан, причем письмо отправлялось с иподиаконом владыки Гурия, будущим протоиереем Игорем Мальцевым (†2000), Царство ему Небесное, и с будущим архиепископом Ярославским Михеем, тогда это был иеромонах Михей. Они учились в Лавре и на праздники ездили к Владыке.
И вот, в день Павла Фивейского, 28-го января, Глеб мне сказал, что ответ получен, он едет за ответом. Как все это происходило, как проходил этот день, я не буду сейчас писать, потому что все это довольно подробно изложено в моей серенькой тетрадке, в которой также можно найти много интересного.
Вот это письмо:
Дорогой Глеб!
С большим интересом прочел твое длинное письмо; но… и с большим трудом — уж очень мелкий и неразборчивый почерк.
Но если трудно прочесть письмо, то еще труднее решить те вопросы, которые там поставлены. Ты должен их решить сам, а я могу только посоветовать то, что мне кажется лучшим, более правильным, а твое дело или согласиться со мною, или избрать то, что тебе кажется лучшим.
Итак, вот что я думаю: Настойчивые предложения т. Жени насчет Любы следует, конечно, отвергнуть со всею решительностью, как ты и делаешь. Это все — женская выдумка, которую т. Женя пытается тебе навязать, совершенно не считаясь с тобой (а, может быть, не считаясь и с Любой). Другое дело — Лида.
Если тебе вообще в жизни жениться, то просто странно, если не сказать грешно, жениться на ком-нибудь другом, а не на Лиде. Оставить Лиду, это значит разрушить то дело, которое, как ты сам пишешь, началось 20 лет тому назад и с тех пор росло и укреплялось, особенно последние 5–9 лет. В такой давней, прочной и все растущей дружбе можно видеть промысел Божий и благословение Божие. Дать Лиде уехать с братом и его детьми — это значит прекратить, закончить это дело. Хорошо ли это, если из всех обстоятельств жизни видно, что до сих пор это дело (то есть нарастающее дружественное сближение с Лидой) было в согласии с волей Божией. Может быть и хорошо, но только в одном единственном случае: — если пойти на монашеский подвиг. Это справедливо и для Лиды и для тебя. Лида это прекрасно поняла и поэтому и сказала насчет пути с братом: “Для меня это будет означать монастырь”.
Ты этого недопонял (то есть, по крайней мере, такого понимания не видно из твоего письма, так как ты делаешь в нем массу всевозможных иных предположений).
Итак, вот первое положение, к какому я прихожу: Тебе надо или жениться на Лиде, или принять на себя монашеский подвиг. Все остальные соображения, затронутые в твоем письме — о житейском неустройстве, об анкете, о науке, о загранице — второстепенны, они только затеняют вопрос, и их следует исключить из рассмотрения. Это все устроится — так или иначе, — и при том и при другом решении.
Теперь пойдем дальше. Можешь ли ты быть монахом? Да, ты мог бы, но при известных условиях. Какие же эти условия? Чтобы знать, какие требуются условия, надо понять, что монашество не есть только безбрачие. Сущность монашества заключается в отсечении своей воли; чтобы отсекать волю, требуется послушание своему руководителю; нужно иметь руководителя, который постоянно жил бы поблизости от тебя. В наше время это трудно получить, для тебя, как будто и вовсе невозможно. Если нет руководителя, то монашество возможно только в недрах церковной работы, когда человек окутан церковной атмосферой, и церковная жизнь сама берет его в известные рамки и приучает к известному послушанию. Твоя жизнь сейчас складывается иначе. Поэтому на вопрос — “можешь ли ты быть монахом?” приходится дать такой ответ: “монахом ты мог бы быть, но твоя жизнь сложилась так, что это невыполнимо”.
К чему же мы приходим? Вывод можно представить в виде вопросов и ответов.
Если ты спросишь: “Благословите мне послушаться т. Жени и жениться на Любе?”, я отвечу: “Нет!”.
Если спросишь: “Благословите мне жениться на Лиде?”. Отвечу: “Да”.
Если спросишь: “Благословите мне избрать монашеский путь?”. “Не знаю, — отвечу я, — не вижу в твоей жизни таких гарантий, которые позволили бы дать утвердительный ответ со спокойной совестью”.
Тебя тянет пойти на церковное служение в некотором далеком будущем.
Дай Бог! Лида этому не помешает.
Не бойся охватившего тебя увлечения наукой! Это благородное увлечение. И неверующие, занимаясь наукой, часто испытывают восторг перед красотою раскрывающихся перед ними горизонтов и радость от полученных результатов. Ты же можешь эти чувства (восторга и радости) возводить к Богу, Создателю. На этом пути верующий не забудет Бога. Ты боишься — не есть ли твое увлечение наукой — греховная страсть. Это увлечение может быть греховной страстью только, если ты поддашься самомнению, склонишься к чужим похвалам, сам себя будешь ставить высоко в своем мнении, одним словом, возгордишься. С учеными, особенно не очень большими, так случается часто. Но где же это не может случиться? Самомнение подстерегает нас на каждом шагу, даже если мы ничего не делаем. Поэтому нельзя тебе сказать “я не буду заниматься наукой, потому что боюсь возгордиться” — это будет неправильно. Дай Бог тебе иметь крупный успех в науке, как следует потрудиться в ней, дай Бог тебе постоянно получать радость и утешение от этого труда!
Тебе приходится решать трудные вопросы твоей жизни. Съезди к преподобному Сергию, попроси его устроить все, как надо, и я уверен, что тогда все у тебя придет в совершенную ясность.
Благослови тебя Бог!
Любящий архим. Иоанн.
16/1.1951 г.
Вечером мы пришли к нам домой. А через несколько дней Глеб сказал об этом своему отцу. Отец немножко был удивлен, ему казалось, что я не очень здорова (я была очень худенькая) и мало для этого подхожу, но согласился. Когда мы сказали отцу Александру, что мы решили пожениться, отец Александр твердо сказал: “Я буду вас венчать сам”.
Тетя Женя встретила это известие более положительно, хотя я была не Любочка, и даже рассердилась на Александра Васильевича, что он Глебу наговорил, что он не очень доволен. И мы съездили вместе к преподобному Сергию и на Ваганьковское кладбище на могилы к нашим мамам. Сообщили об этом Жене, который в это время уезжал в Питер. Он тут вдруг решил, что именно он потворствовал нашему сближению. Мы очень над этим посмеялись. А Женя ехал туда, чтобы принимать сан. Потом я была у родителей Глеба. Они встретили меня очень тепло, тетя Женя подарила мне чашечку и сказала, что она впервые за нас подала на литургию вместе. Так началось мое положение невесты.
Глеба, возможно, немножко пугала моя биография. Он был строго засекречен, и это могло ему помешать в дальнейшем. Поэтому мы решили расписываться заранее; венчаться, конечно, на Пасху, а расписываться раньше. Расписывались мы пятого апреля, вот уже прошло 50 лет. Мы расписались и разошлись, не придавая этому никакого значения. Но его родители, особенно тетя Женя, придали этому особое значение и вечером торжественно приехали к нам. Глеб был страшно недоволен.
Глеб стал чаще у нас бывать, он наконец понял, что ему нужно. Вскоре он уехал в Питер (в этот момент была сделана фотография: Женя и Глеб вместе – на обороте написано: друзья перед большими событиями) и из Питера написал письмо, которое, правда, передал мне потом лично в руки. Он мне сказал, что впервые вдруг обрадовался, что едет в Москву, что ему не хватало меня, что он был поражен тою любовью, которой я его окружила со всех сторон.
Вот это письмо:
Родная моя!
Мне хочется сказать, что я поражен огромностью и глубиной и цельностью твоей любви, вдруг окружившей и охватившей меня. В изумлении я не вижу дна ее и где концы ее. Это меня наводит на некоторые мысли, о которых скажу позже (не знаю, что он имел в виду).
В Ленинграде, в огромном и многолюдном городе с его дворцами и учреждениями мне стало не хватать тебя. Первые два дня я не замечал этого, а сейчас мне даже приятно было положить в карман билет обратно в Москву. Для меня это до некоторой степени ново.
Там же он пишет, чтобы я ничего не скрывала от него. Говори, не боясь меня смутить. Каждое движение твоей души, твоего существа мне дорого, или, во всяком случае, волнует. Не пишу: все дорого, потому что, может быть, есть вещи, от которых мне хотелось бы, чтобы ты освободилась. По поводу свадьбы среди знакомых были разговоры. Его спрашивали, подарил ли он мне чего-нибудь к свадьбе как невесте, что это очень нужно, и это женщина очень ценит. Все хочется им свести в стандартные нормы отношений. От всех этих (?) как-то пахнет мещанством. Это значит — опошлить наши свободные и глубокие отношения. Для меня ты выше этого.
Большим дополнениям ко всем моим рассказам будут поздравительные письма, присланные нам на свадьбу.
Вот письмо отца Сергия Никитина, будущего владыки Стефана:
Дорогая моя Лида!
Спасибо тебе за письмо. Был им очень утешен. Рад за тебя, что ты счастлива. Дай Бог вам Господь до конца жизни сохранить веру в Бога. Жить в полном единомыслии и единодушии.
Ведь нет больше земного (подчеркнуто: земного) счастья, как христианский брак. В нем заключается полнота земной жизни. Обнимаю и благословляю тебя. Любящий тебя иерей Сергий.
И этой полнотой земной жизни мы наслаждались с Глебом более 40 лет.
Слава Богу за все!
Есть некоторые письма Глеба из экспедиций, в которых проскакивает изредка что-то такое, касающееся нас лично, потому что он обыкновенно писал все про горы, горы, горы, а иногда вдруг проскакивает что-то личное, что-то ласковое. Он как-то не умел и не любил это выражать, хотя я всегда на себе ощущала его любовь, его внимание.
Ну вот, мы расписались, я начинаю готовить приданое. Глеб дает мне деньги… Ну, одно дело — сшить какое-то постельное белье, ночные рубашки, еще что-то, другое дело — подобрать костюм для Глеба. Глеб всегда ходил в каких-то куртках, в каких-то серых страшных рубашках, никогда в жизни не надевал костюма и белой рубашки, он даже не знал, как надо завязывать галстук. Надо было все это купить. Я ходила в магазин (у нас на углу была хорошая галантерея) и выбирала рубашку. Какую рубашку ему купить? Наденет он ее или не наденет? Потом заказали костюм.
Материал на венчальное платье мне подарила Надежда Григорьевна Чулкова. Мы отдали его портнихе, она мне сшила венчальное платье и еще одно. Вуаль мне прислала Анна Никандровна, тонкий такой тюль, так что и вуаль сделали. Фату хорошую сделали. Туфли у меня были простые, парусиновые на низком каблуке, но меня это нисколько не смущало.
Встал вопрос, где мы будем жить. Мы с мамой живем в проходной комнате, у них — 28 метров, полулежащая бабушка, тетя Женя, которая плохо спит, дедушка (тогда еще, кажется, без инфаркта). У них жить негде, это было сразу нам сказано. Разменять эту 28-метровую комнату практически нереально, и на что?
Жить негде, даже негде встретиться после венчания. Наконец, мы решились и сняли себе комнату на три дня в Сергиевом Посаде, в том доме, где жил Марк Сатаев со своей женой и уже с кем-то из детей. Решено было после венчания ехать в Сергиев Посад, а потом жить врозь: он у себя, я у себя. Вот такие были у нас сложности.
Свадьба у нас все время откладывалась, потому что Глеб все хотел кончить диплом, но диплом он делал, как все, очень основательно. Наверное это была целая диссертация, и никак он его не мог кончить. Я ему что-то помогала, что-то считала, но время идет и идет. И Пасха кончается, после Пасхи — Троица, пост. А нам надо уезжать в поле. Мы уже решили ехать вместе в Среднюю Азию, он берет меня с собой как коллектора. Со своей работы я ушла с первого мая. Совершенно непонятно: где, и где, и где нам быть? Как мы будем жить до поездки в поле? Ну, ничего, мы виделись почти каждый день. Глеб как-то оттаивал. Я радовалась, что скоро мы будем вместе, и навсегда. Глеб, правда, смотрел на семейную жизнь, как на серую сторону жизни, ему казалось, что это все, наверное, будет очень трудно.
Мне кажется, его предчувствия не сбылись. Мы хорошо с ним жили, оба были довольны, оба радостны, никогда друг другу не надоедали. Я всегда, когда он уезжал, без него очень скучала. И он говорил, что я ему никогда не надоедала, но иногда говорил, что когда он занимался, а я открывала дверь и входила, это ему немножко мешало, хотя, с другой стороны, было очень приятно.
Сложные времена были. Все так тогда жили. В конце концов я настояла, и мы решили венчаться в последнюю пятницу перед Вознесением. Мне хотелось венчаться тогда, когда еще будут петь Христос воскресе из мертвых, чтобы наше венчание началось с этой торжествующей песни победы над смертью. После венчания мы уехали в Сергиев Посад. Никакого стола у нас не было, мы и не хотели его устраивать, венчались при закрытых дверях. Присутствующих было очень мало. Был Володя Гоманьков3 (в это время Наташа лежала в роддоме с Колей), тетя Шура была, дядя Коля, который был моим посаженным отцом. От него я уезжала под венец. Из Питера приехал на свадьбу старший племянник Алеша. Когда его спросили: “Как тебе понравилась свадьба?”, он сказал: “Очень понравилась, очень вкусная была индейка!”.
После индейки мы поехали в Лавру. Во вратах Лавры мы встретили отца Александра Ветелева, который благословил нас, говоря о святости брака и о святости брачных супружеских отношений. Причем он даже предупреждал тетю Женю, чтобы она совсем не вмешивалась в нашу семейную жизнь. Бывает так иногда, что родители начинают советовать, заводить или не заводить детей, а он ей строго-настрого запретил вообще говорить об этом с нами. Мы приехали, приложились к мощам, потом пошли на квартиру. И на другой день мы пошли гулять; есть такие фотокарточки, где мы гуляем. Немножко погуляв, немножко посидев со мной, обняв меня, Глеб Александрович садился писать свой диплом, так что наша трехдневная жизнь в Сергиевом Посаде все время менялась: то мы старались как-то быть вместе, о чем-то говорить, то он опять садился за свой диплом. В субботу, соответственно, мы вечером пошли ко всенощной, в воскресенье были у литургии и поехали домой.
Мы поженились, зная друг друга уже 20 лет. Мы прожили 63 года, зная друг друга, из них 43 года в браке. Поэтому у нас в наших отношениях не было, как пишут, трудного медового месяца — привыкания друг к другу. Нам не надо было привыкать друг к другу. Мы слишком хорошо знали друг друга.
Из Сергиева Посада мы приехали к его родителям. Я рассчитывала ехать ночевать домой к маме, но была удивлена, что в том углу, где за фанерной загородкой стояло какое-то ложе, стоит полуторная кровать, и тетя Женя говорит: “Куда вы уедете, куда ты собираешься ехать, когда у тебя здесь муж?”. Так началась наша жизнь; я домой не поехала. Оказывается, на это немножко повлияли наши соседи. Когда стали обсуждать, куда мы вернемся, наши соседи сказали: “Как это можно, чтобы они разъехались в разные стороны?”. В то время нередко было, что по много народу жило в одной комнате. У окошка, загороженные, спали мы, потом на кровати спала бабушка полулежачая, потому что она сломала себе в 90 с лишним лет шейку бедра. Врачи сказали, что бедро не срастется, но оно срослось, правда криво. Дальше там за ширмами стоял диван-кровать тети Жени, а под часами спал дедушка. И так мы все стали жить. Жизнь, конечно, была очень сложная. Бабушка ложилась спать рано, при этом если она просыпалась, потом уже не могла заснуть. А так хочется говорить, а шепот для спящего — это хуже, чем разговор. Мы приходили вечерком, тихонечко пробирались к себе, в свое местечко, и ложились.
Глеб срочно заканчивал свой диплом. Я с ним вместе бывала в институте, помогала ему по диплому. И, если я не ошибаюсь, 24 июня 1951 Глеб его защитил. Тетя Женя в это время уже уехала на дачу, мы были одни с бабушкой. Вечером после защиты диплома мы пришли усталые домой, потом пришел дедушка и положил нам цветы на кровать. Вскоре мы стали собираться в экспедицию, опять в Среднюю Азию, и отъезд наш был перед Петровым днем.
Мы прилетели в Ташкент, но там мест в гостинице не оказалось. Глеб не растерялся (тогда спальных мешков у нас с собой еще не было, они были в экспедиции), взял из нашего багажа какие-то одеяльца, и мы легли с ним под кустом недалеко от аэровокзала. Утром проснулись от разговоров, оказалось, нас с двух сторон огибают тропинки, по которым ходят летчики и пассажиры.
Так началось наше свадебное путешествие. Потом прилетел Д. П. Резвой, мы пытались улететь в Фергану, но мест на самолет не было. На следующую ночь меня устроили в комнату к мужчинам, так как женские места в гостинице были заняты. Было не очень удобно спать среди множества мужчин, но ничего. Наконец нам дали билет на какой-то транспортный самолет.
Перелет в Ташкент из Москвы я перенесла хорошо, только иногда было неприятно, когда мы попадали в яму. А вот тут лететь было хуже, так как это был транспортный самолет, и в нем был какой-то очень сильный запах. Летели мы несколько часов. В Фергане нас встретила Галина Ивановна, жена Резвого. Она давно ждала Дмитрия Петровича, который никак не мог вылететь, — и я оказалась виновата, что ее муж не прилетел. Только мы собрались перекусить у ее родителей, посмотреть Фергану, как нам сказали, что за нами приехала машина. Нас всех погрузили и повезли, кажется, в Исфару. Однако вначале поехали на рудник Хайдаркан, где мы ночевали. Здесь мы впервые с Глебом получили “отдельную квартиру”. Растянули палатку, разложили спальные мешки. Это был первый наш дом. Мы очень, конечно, соскучились друг без друга, потому что до этого постоянно было много народу, а тут мы наконец остались одни, и очень было хорошо. А потом с этого рудника опять пришла машина, и мы поехали непосредственно в Исфару.
И началось наше так называемое свадебное путешествие — геологическая экспедиция. Конечно, было очень много трудностей, и физически мне было трудно… Я не привыкла к полевой жизни. Надо было ездить на лошадях; при этом сперва мне надо было на них залезать. Но мне нравилось ездить верхом. Я, правда, уставала, иногда расстраивалась и плакала, но это как-то не влияло на наши отношения, хоть Глеб на меня сердился. Все было хорошо, потому что был отдельный дом, то есть отдельная палатка.
Было много всяких приключений, мы ездили по горам, несколько раз я была на краю гибели. Так, как-то мы остановились позавтракать, привязали двух лошадей к кустику. Там был “Виллис” Глеба, и страшно капризная “Принцесса”, которая всего пугалась. Мы перекусили, и Глеб говорит: “Пойди приведи лошадей”. Я подхожу к ним снизу (они выше меня стояли), хочу ее отвязать, а в это время Глеб случайно махнул плащом, Принцесса вздыбилась, вырвала куст и понеслась. Я пытаюсь увернуться и вижу над собой ее копыта. Мое счастье, что Виллис оторвался от нее, и она убежала в сторону и не убила меня на глазах у мужа.
Хотя Глеб на ней ездил, но плащ положить на ее круп он никак не мог. Как только брался за плащ, так она вставала на дыбы. Потом мне дали другую лошадь… совсем шизофреничку какую-то. Она не желала сама идти впереди, шла только в хвост другой лошади. Постоянно капризничала, плохо ходила. Несколько раз я ее подстегивала, она поднималась на дыбы, и Глеб меня снимал. К сожалению, фотопленки этой экспедиции оказались очень плохие.
В горах было, конечно, очень красиво, но страшно. Мы много ездили по ущельям, где узкая дорога, справа в полуметре мраморная стена, а слева откос, поскользнешься — и полетишь. Обычно мы шли караваном: впереди мы верхом на лошадях, а сзади — груженые ишаки, причем если ишак оступался, то он совершенно не пытался сопротивляться: его тянут за узду, а он никак не помогает. Лошадь, наоборот, если немножко оступится и ей поможешь, она сразу выскочит. Ишака приходилось развъючивать, потом вновь навъючивать, на что уходило много времени и сил.
Мы жили с рабочими — узбеками. Они очень чистоплотные, всегда ходили в белых рубашках, прекрасно готовили. Ели два раза в сутки, утром и вечером, когда возвращались с маршрута. Так как мы работали далеко от городов, то для того, чтобы получить запас продуктов, приходилось тратить целый день. Караван уходил за продуктами в указанное место, куда на машинах подвозили продукты. Иногда у нас бывали перебои с продуктами, так что нередко приходилось сидеть на одной овсянке. Однажды под моим предводительством был бунт, так как когда привезли продукты, нас хотели по-прежнему кормить одной овсянкой.
Там мне удалось с Глебом преодолеть перевал 4200 метров. Было очень трудно, воздуха совершенно не хватало. Какое-то время мы поднимались на лошадях, затем их оставили и пошли пешком. Было тяжело. Ну, думаешь, 10 метров пройдешь… и не проходишь. Останавливаешься, дышать нечем. Глеб привык, он быстрей меня шел. Потом я его отпустила, говорю: “Иди, потому что иначе мы ничего не сделаем”. Но я все-таки вползла на этот самый перевал, так что и я была на высоте 4200 м.
Еще мы ходили с ним по леднику, тоже было очень интересно. Когда мы шли по леднику рано утром, дорогу нам пересекали маленькие ручейки, а на обратном пути стало страшновато. Солнце разогрело, ручейки резко расширились, была реальная опасность провалиться в щель. Тогда Глеб меня привязал к себе.
Однажды мы с ним, перепрыгивая с одного выступающего камня на другой, вскарабкались наверх по почти вертикальному откосу, а обратно сбежали по осыпи. Это было потрясающее зрелище. Громаднейшая осыпь; Глеб взял меня за руку, и мы побежали. Осыпь поехала. Остановиться было нельзя, потому что если остановишься, то задавит камнепад. Так мы в несколько минут оказались внизу и резко отскочили в сторону.
Однажды мы заночевали под ледником. Это было в тот день, когда мы поднимались на перевал 4200 м. Спуститься обратно ночью мы уже никак не могли, стало темно. Мы пытались перейти вброд горную речку. Речка неглубокая, но было опасно, что лошадь может поломать себе ноги о камни. Нашли какую-то маленькую лужайку, привязали двух лошадей одну к другой, поели горьких лепешек, которые нам с собой дали. Легли, всем чем можно накрылись, хорошо, что у Глеба был полушубок. Когда рассвело, стало ясно, что дорога вполне приемлемая, по ней можно спокойно проехать. Кстати, ночью лошадь Глеба съела мою соломенную шляпу, которая была привязана к моей лошади.
Мы путешествовали с ним полтора-два месяца. К сентябрю нам нужно было вернуться в Москву, потому что Глеб сдавал экзамены в аспирантуру. Мы приехали в Ташкент, с нами ехал сын Дмитрия Петровича и Галины Ивановны Резвых, Павел, он ехал учиться. Мы остановились у какой-то их знакомой. Глеб сходил в епархию. Владыки Гурия не было, но был архимандрит Иоанн. Мы ходили к нему в гости. Было очень интересно, епархиальный дом был расположен на холме, а вниз шли обвитые виноградом террасы. Архимандрит Иоанн срезал нам винограда, и мы его потом ели.
Мы вернулись в Москву, Глеб сдавал экзамены. Встал вопрос о жилье, потому что жить в одной комнате было немыслимо. Мы стали искать себе квартиру. Пришлось много переживать, Глебу жалко было у родителей отрезать половину площади. Но в конце концов мы все-таки сняли жилье на Домниковке. Это была отдельная квартира с двумя комнатами. Мы жили в одной комнате, а другая комната принадлежала родственникам хозяев. Там мы прожили почти два года.
Весной 1952 года родился наш первенец (17 мая). Мы его назвали в честь преподобного Сергия по обету, который я дала в 1932 году, когда летом в день его памяти после ареста был освобожден мой отец — священномученик Владимир (Амбарцумов, день памяти 5 ноября).
Раньше Глеб считал, что самое главное в жизни — работа, семья как бы на втором месте. Самое главное счастье — это в работе. Но все-таки он скоро почувствовал, что это не так, что семья очень и очень влияет на наши всяческие взаимоотношения.
Так что уже через год после того, как мы поженились, когда родился у нас Сергушка — с таким трудом, что пришлось нам обоим много помучиться (мне — физически, а ему — морально), он пишет: Радостная нежность совместной любви и счастья, возможность быть вместе прекрасней через год после свадьбы, чем у истоков супружеской жизни. Она глубже и крепче. Это не радость мечты прекрасной, но, быть может, обманчивой и мимолетной, как блеск солнца на быстро тающем утреннем тумане. Это — радость самой жизни, итог совместно прекрасного; итог, светло проверяющий прошлое и озаряющий настоящее и будущее.
Нам было хорошо, нам всегда было хорошо вместе. Вот у нас появились дети. Глеб никогда не чуждался Сережи. Я не помню, скажем, чтоб он стирал пеленки. Я справлялась с этим сама, но, когда мне надо было уходить на работу (я в это время немножко еще работала), то Глеб спокойненько брал корзину с Сережкой, ставил ее рядом с собой на стол и сам прекрасно занимался в это время, писал свою диссертацию или что ему там нужно было…
Дети ему не мешали. Он играл с ними. Ну, может быть, гулять ему некогда было, когда мы находились в Москве.
Лето мы провели на даче в Семхозе, родители тоже сняли там дачу в соседнем доме. Я в основном жила там одна, потому что Глеб работал, приезжал только на воскресенье, один раз — среди недели, выходных суббот тогда не было. Зиму мы опять прожили на Домниковке, а следующей весной нам заявили, что больше нам эту квартиру сдавать не будут и ее необходимо освободить. Летом 1953 года мы опять поехали на дачу в тот же дом в Семхозе.
Осенью мы стали искать квартиру. Как-то мы ездили в Сергиев Посад и по дороге обратно какая-то женщина обратила на нас внимание. “Что это, говорит, вы так”, — она наклонилась к Сереньке, которому не было еще полутора лет. — “Что это так, детка, тебе спать пора, а ты, значит, это… не спишь, а едешь?”. Мы ей сказали, что ищем квартиру, нам негде жить. Она говорит: «Приезжайте ко мне, у меня дом в “Заветах Ильича”, зимой он свободный, и вы можете там спокойно жить. Вот вам адрес, а я сейчас схожу в “Заветах Ильича”». Она дала нам адрес, а мы поехали дальше. Потом Глеб съездил к ней, познакомился. Оказалась, это — Мария Венарская. И она, и муж ее были революционерами, она лично знала Сталина, но когда начались аресты в 37-м году, она вышла из партии, пришла к Ежову и положила партбилет, сказала, что не может голосовать за арест своих товарищей, с которыми вчера разговаривала, а сегодня должна голосовать, что они — враги народа. Он сказал: “Дура! Лучше девять человек убить так, чем упустить одного врага народа”. И она из партии вышла. Когда она пришла домой, то ее муж и сын даже боялись ее пускать, но ее не арестовали, а отправили куда-то в командировку. Так она больше в партию и не вступила.
Она была инженером-речником, очень интересный была человек. У них мы прожили две зимы. Там Ванюша родился у нас (20.01.1954). Глеб хотел назвать второго сына в честь своего брата Кирилла, однако, как мы говорили, Ванюша сам выбрал свое имя, он родился в собор Иоанна Крестителя.
Глеб всегда совершенно спокойно и с радостью воспринимал известия о том, что у нас будет еще один младенец, даже замечал, может быть, и раньше меня. Он всегда говорил, что я становилась светлее и как-то красивее. Он очень ценил вечную прелесть материнства, о чем очень хорошо пишет в своих “Записках рядового”4.
На лето мы сняли помещение недалеко от церкви, где позднее служил отец Александр Мень. Ване было полгода. В это время Глеб блестяще защитил кандидатскую диссертацию и уехал в экспедицию. Я осталась там одна.
Родители очень боялись, что мне будет трудно, и прислали нам домработницу по имени Тамара. Она помогала мне, но мы немножко неправильно с ней себя повели, держались по отношению к ней на равных. Вскоре она стала требовать, чтобы мы ее прописали, и многое другое. Летом, когда я одна жила с двумя ребятами, она уехала, но я была этому очень рада; как-то я справлялась. Ко мне приезжала тетя Наташа, старшая сестра моего папы, и мама приезжала. Когда осенью приехал Глеб, мы временно перебрались к его родителям, так как Венарские еще жили на даче. С нами там жила моя мама, которой уже было трудно жить с Надеждой Григорьевной, и родители Глеба взяли маму к себе и прописали ее. Вскоре мы опять поехали на “Заветы Ильича”, к Венарской. Жить там, конечно, хорошо было, но дом все-таки был не очень теплый. Печку надо было топить углем, с чем были связаны большие трудности. На второй год мы решили перебраться в другое место. Глеб вместе с детьми ходил искать квартиру; он ходил по улице, вез на деревянной коляске двух ребят и кричал: “Ищу квартиру! Ищу квартиру!”. Как-то кто-то высунулся… Оказалось, это — жена геолога Нина Ивановна, и она нас пригласила жить к себе в дом.
А это уже было, когда родилась Сашенька и я была в роддоме. Ее мы назвали в честь мамы Глеба. Когда я вернулась из роддома, мы перебрались к новой хозяйке. У ней был хороший дом, но к сожалению, не было внутренней перегородки фундамента между передней и домом, и поэтому дома на полу был мороз: когда я стирала и кидала пеленки в таз, то первая пеленка примерзала к полу. Зима (1955–1956 гг.) была очень холодная, мороз достигал 40 градусов. Мы топили две голландки, одну — целые сутки, а другую — только днем. Наверху было тепло, а внизу у пола было холодно. Однажды я возвращаюсь из Москвы и вижу: все дети сидят на столах. Глеб со всего дома стащил столы, поставил на них маленький столик и посадил детей. Там было тепло, и даже я туда к ним иногда залезала. Когда мы ложились спать, то во все постели клали грелки. А потом грелки уже не хватало, Глеб героически прыгал в нашу кровать и ее согревал.
Дедушка мне как-то посоветовал: “А вы керосинку зажгите”. Я один раз рано утром зажгла керосинку в комнате, а потом просыпаюсь, а у нас хлопьями летит копоть. Я в ужасе была… К счастью, Глеб в тот день не должен был ехать на занятия, и мы все стряхивали копоть с занавесок, и я сказала, что больше керосинку в комнату вносить не буду.
Так мы героически прожили у Нины Ивановны зиму. Глеб до окон засыпал все снегом, чтобы как-то утеплить дом, но все равно было очень холодно. К нам почти каждое воскресенье приезжал Володя Гоманьков и тоже помогал нам утепляться. На лето мы перебрались на 43-й километр, где жили Ефимовы5, на 5-ю Просеку. Зимой они обещали нас пустить к себе. Там мы сняли две комнаты, а в соседних домах сняли дачу родители.
Там было несколько приключений. Глеб только что уехал в экспедицию. Утром я сижу на кровати, рядом двое мальчишек, и в маленькой кроватке Саша играет. И вдруг мне Сережа говорит: “Мама, а Ваня съел мой гвоздь”. И я вижу, что Ванька давится. В ужасе я засунула руку в его рот и вытащила гвоздь, причем этот гвоздь был сантиметра четыре длиной и согнутый, так что я не знаю, что было бы, если б он его проглотил. Потом меня всю трясло. А в другой раз было так. Саша начала уже ходить. Она ходила по комнате вдоль стенки, а я сидела что-то шила, — ну, в общем, смотрела за ребенком. И вдруг, смотрю, этот ребенок что-то грызет. И что же… я вижу у ней в руках патрон от фонариковой лампочки, а все стекло находится у ней во рту. Я очень испугалась, вытащила у нее изо рта эти стекляшки и несколько дней потом боялась, что с ней что-нибудь случится.
Так мы прожили это лето и потом на зиму перебрались к Ефимовым в дом. Мне кажется, он был на 3-й Просеке. Там мы жили хорошо. Надо было топить громадную печку, но у них было проведено отопление, были батареи и более или менее тепло. Конечно, с топкой было тяжело. Топили углем, уголь надо было выгребать, разбирать, вымывать остатки. Глеб же был занят, он преподавал в это время и иногда очень поздно приезжал домой. По воскресеньям приезжал Борис Петрович с кем-нибудь из ребят. За ними оставалось две комнаты, и они обыкновенно варили суп из кильки в томате. И мы тоже потом научились его варить.
Да, еще с нами жила очень интересная женщина, всю жизнь посвятившая служению Богу, Вера Ивановна. Она была католичка, была сестрой милосердия еще на Японской войне… Ефимовы ее пригрели и она у них жила, питалась в соседнем доме. А когда она уже состарилась, ее отправили в инвалидный дом, где она и скончалась.
По соседству с нашими, в соседнем доме, жили очень интересные люди. Елена Васильевна Кирсанова, и там с ней была еще такая Елена Владимировна, она тайная монахиня была6. С ними было очень интересно общаться. Летом, когда приехали Ефимовы, нас пустила к себе Елена Васильевна, одно лето мы жили у нее в доме. Следующее лето мы предполагали жить в домике у нее на участке. Перед этим в нем жил будущий владыка Стефан. Однако там остались его вещи, поэтому нас туда не пустили. Потом в этом домике жил будущий патриарх Пимен. Будучи наместником Троице-Сергиевой Лавры, он снимал у Елены Васильевны этот домик и приезжал сюда иногда отдыхать. Елена Васильевна готовила ему чай. Тут мы познакомились с будущим Святейшим Патриархом, он был интересный, замечательный человек.
На следующую зиму, в 1957 году на Ванин день рождения ко мне приехала мама. Ей было уже трудно жить с родителями Глеба, и она с удовольствием приезжала ко мне. Она была очень слабенькая. На воскресенье она уходила ночевать к Елене Васильевне, потому что приезжали Ефимовы. И вот однажды, это было 2 февраля, она вернулась какая-то красная. Мы ее спросили, как она себя чувствует, она сказала, что хорошо. Вошла ко мне в комнату. Я отправила ребят гулять, и мы с ней решили что-то ей шить. Я прихожу, а она стоит около дивана, вернее, сундука, на котором спал Ваня. Издает какие-то непонятные звуки и немножко странно как-то водит рукой по голове. Я говорю: “Мама, мама, Вы что?”. Она, ничего не ответив, попробовала было шагнуть, но не могла. С ней случился инсульт. К счастью, Глеб был дома. Я позвала его, он ее взял на руки и положил на нашу кровать. К нам сейчас же приехал один знакомый врач, который и поставил диагноз.
Мама очень не любила, не могла видеть всяких пресмыкающихся, и всегда мне говорила, что “если со мной что-то случится, ни в коем случае не ставь мне пиявки. Если я увижу пиявку, то мне будет плохо”. А тут врач велел поставить ей пиявки. Я съездила в Пушкино, купила пиявки и умудрилась поставить, правда не все. Она была уже в полусознательном состоянии. Тут же приехала ко мне Марья Кузьминична, монахиня Михаила (Шитова), из Питера приехала Анна Никандровна Сарапульцева и брат Женя. Уже была первая неделя Великого Поста. Женя побыл некоторое время, но долго он задерживаться не мог, он тогда уже служил в одном из соборов Ленинграда. Он ее пособоровал, причастил и уехал. “Потому что, — говорит, — я не могу. Потом меня не отпустят на похороны” (было ясно, что мама умирает). Мама пролежала так 40 дней, потом у ней началась гангрена здоровой ноги, ей делали новокаиновую блокаду. За ней ухаживала и Марья Кузьминична, и Анна Никандровна, потом приехала Софья Максимовна Тарасова, врач и тайная монахиня. Все они мне помогали, но когда надо было маму переворачивать, то всегда звали меня, и ночью тоже. Приходилось, конечно, много дополнительно стирать, было очень тяжело. Дети были маленькие. Санька много спала на улице, ребята гуляли сами. После того как у мамы случился инсульт, приезжал ее духовник отец Александр Ветелев. Потом мы хотели причастить ее на первой неделе поста. Валя Сатаева поехала к отцу Александру, он говорит, что сейчас не может: мефимоны… и все прочее…
Я поехала в ближайшую церковь, с трудом добралась до батюшки, потому что надо было идти в гору, был страшный ветер. Батюшка сказал, что может к нам приехать, но нужна машина, потому что надо вечером читать мефимоны. Я вернулась домой. И вдруг открывается калитка, идет испуганный отец Александр Ветелев: “Я не опоздал?”. Так он причастил маму в последний раз. Мама была в полусознательном состоянии, она реагировала на ребят, когда ее что-то спрашивали, она кивала головой. Первое время она очень остро реагировала на приезд друзей, даже плакала. Но последние дни уже ничего не ела, пила только святую воду.
И вот воскресенье, день Торжества Православия. Наши монахини дежурили по очереди. Один день — Софья Максимовна, монахиня Агапита, а другой день — Марья Кузьминична, монахиня Михаила. Та, которая не дежурила, ехала в церковь. И вот в этот день с мамой была Марья Кузьминична, а Софья Максимовна поехала в Лавру, она причащалась. И маме стало совсем плохо. Мы около нее были все. Марья Кузьминична сказала Глебу: “Читай отходную”, а он говорит, нет. Но потом вдруг мама широко-широко открыла свои светлые глаза, такие они были удивленные, но не испуганные.
Марья Кузьминична вырвала у Глеба книжку, стала читать отходную. А мама посмотрела, посмотрела, закрыла глаза и испустила дух. Это было в 12 часов. В это время в Троице-Сергиевой Лавре пели “Тебе поем…”. И Софья Максимовна стояла на коленях. И она почувствовала, что мимо нее прошла мама. Когда она вернулась из храма, первый вопрос ее был даже не вопрос, а утверждение: “Машенька умерла?”. — Машенька умерла.
С Божией помощью все устроилось. Как-то и документы оформились (тогда это все было очень сложно). Женя — отец Евгений — приехал с Алешей. Маму перевезли в Москву, к Трифону-мученику; где ее окрестили, там ее и отпевали. Отпевал ее отец Александр Ветелев, Женя и еще какой-то священник. Было очень много народу. Похоронили ее на Ваганьковском кладбище, в могилу мамы Вали7. И они стали вместе, не двое, а все трое: папа-священномученик Владимир и две моих мамы, потому что после отпевания папы в 1956 году мы землю закопали в могилу мамы Вали. Как мы всегда их троих поминали, так они и были. Сейчас, когда прошло немного времени после канонизации папы, когда я пишу в церкви записки, становится как-то очень странно: писать в поминальных записках мам, а папу не писать.
В 1958 году умер Александр Васильевич Каледа, дедушка Саша. Он выехал к нам на дачу 20 января, это был день Ангела Вани, и, спустившись со своего третьего этажа на второй, упал с инфарктом; домой его принесли умирающим, были уже последние вздохи. Господь, конечно, был милостив, потому что если папа упал бы где-нибудь по дороге, то трудно было бы его найти. А мы его долго не начали бы искать, потому что бабушка думала, что он поехал к нам, а мы думали, что он сидит в Москве. Глеб в это время находился в отпуске, у него, правда, были экзамены, и в Москву он ездил не каждый день. Глеб очень тяжело переживал смерть отца, плакал. Отпевали папу тоже у Трифона-мученика. Отец Александр, правда, был болен, поэтому я не помню, кто его отпевал (Женя, наверное, приезжал). Похоронили его с бабушкой, Викторией Игнатьевной, в одну могилу. Теперь в эту могилу легли к ним Сережа с Аней8. Сережа лег к своему дедушке, к своему крестному. А рядом лежит его крестная Наташа Гоманькова.
После смерти дедушки Александра Васильевича тетя Женя осталась одна. Ей помогали тогда так называемые девочки (с ней был кто-то еще из друзей). Встал вопрос о том, что мы должны переезжать в город. Мы стали жить в этой 28-метровой комнате с тетей Женей. Ей, конечно, с нами было очень трудно. У нас было трое детей, а 7 июля 1958 года появился на свет Кируша, и стало еще трудней. Поэтому Глеб сразу стал искать квартиру. И мы из этой одной комнаты с Новослободской переехали в общую квартиру в двухэтажный деревянный дом, сменяв свою одну комнату на две смежных. Тоже 28 метров, с газовым отоплением. Правда здесь были удобства: была горячая вода, туалет, и был газ. В дальней комнате жила тетя Женя и спала Саша, а в передней комнате помещались все мы. Свободной площади там было метра полтора, не больше. Вся наша мебель стояла по краям. Сережу клали сперва на нашу кровать, а ночью папа его переносил на раскладушку посередине комнаты. Тогда уже места совершенно не оставалось. На учет нас никак не ставили, потому что у нас было больше трех метров на человека.
8 апреля 1961 года родилась Маша, мы ее назвали в честь моей крестной мамы Марии. Мы хотели ее назвать в честь мученицы Марии, но она родилась перед самой Пасхой, так что ее назвали в честь Марии Магдалины. В честь мученицы Марии была крещена другая Маша — будущая жена Василия. В ноябре скончалась бабушка Женя. Она тоже лежала примерно 40 дней в параличе. Это было очень трудное время, потому что я была одна с ребятами. Иногда кто-то приходил мне помогать. Очень трудные были ночи, потому что у нее был диабет, она все время просила пить, спать было совершенно невозможно. К утру я будила Глеба и говорила: “Дежурь теперь ты”. Бабушка тихо, тихо умирала. Она сказала, что перед смертью видела Божию Матерь. Мы похоронили ее на Ваганьковском кладбище, недалеко от дедушки Саши. Теперь в этой могиле еще лежит Наташа Гоманькова.
2 марта 1963 года у нас родился Василька. Мы с детьми хотели назвать его Николаем, но Глеб назвал его в честь своего любимого святого Василия Великого, который был и Святителем, и выдающимся ученым своего времени. После рождения Васи мы стали хлопотать, чтобы нас поставили на учет; нам долго еще говорили, что у нас три с половиной метра на человека, а положено три, а вот полметра лишних, но все-таки как многодетных поставили.
На лето с 1960 по 1965 год мы уезжали в деревню на станции “Рассудово” по Киевской железной дороге. Снимали деревянный дом в двух километрах от станции. Хозяев там не было, крыша была плохая, текла, но зато мы были одни и никто нам не мешал. Я там жила, а Глеб приезжал раз в неделю, иногда среди недели еще приезжал. По субботам выходных еще не было. Глеб по-прежнему уезжал в экспедиции, иногда даже на пять месяцев, а я, как морячка, сидела одна. Летом 1966 года поехали в “Конев Бор” по Казанской железной дороге. Рядом на станции “Пески” в поселке художников жили Тутуновы9.
В июле того же года нам предложили пятикомнатную квартиру, в которой мы сейчас живем. Квартира имеет, конечно, очень неудачную планировку, потому что состоит из однокомнатной и трехкомнатной квартир, только две комнаты изолированные — комната отца Глеба и маленькая дальняя комната, а остальные все проходные. Потом мы наделали дверей, а тогда для нас это, конечно, был “рай”, — после 28-ми метров.
После окончания института, аспирантуры и защиты диссертации Глеб был ассистентом кафедры петрографии МГРИ, которую возглавлял профессор Швецов. В это время он летом работает в Средней Азии в партиях Дмитрия Петровича Резвого, с радостью ездит туда. А потом в институте сложились такие обстоятельства, что на кафедре оказались все беспартийные. Необходимо было кого-то уволить, чтобы взять на это место партийных сотрудников. Уволить могли или Глеба, или другого ассистента. И Глеб сам уходит из МГРИ и переходит во ВНИГНИ по конкурсу на должность старшего научного сотрудника. Вскоре после рождения Василия, в 1964 году он стал начальником отдела.
Но когда он начал работать во ВНИГНИ, то он уже в Среднюю Азию не ездил, потому что начал работать по нефти, по газу. Он ездил в командировки (и уже не такие длинные) в Урало-Поволжье на нефтегазовые месторождения. Надо сказать, что во всех экспедициях Глеб неизменно оставался самим собой. Он всегда имел с собой не только Евангелие, но записную книжку, которую я ему сделала, когда он еще был студентом. По этой записной книжке можно было составить службу. С одной стороны в этой книжке были написаны последования вечерни и утрени, какие псалмы читать, как и что. А в другой половинке этой книжки (она как бы из двух книжек складывается) были службы по гласам. И Глеб неизменно, где бы он ни находился, всегда в субботу и воскресенье вычитывал сколько можно, никогда не забывал праздников.
Как протекала его жизнь? В институте у него были разные отношения. Большие трудности были, когда он работал под руководством Казимирова. Сперва они начали дружно работать. Дмитрий Александрович говорил: “Что ты, что я, мы одинаковы…”. Потом Казимиров почувствовал силу Глеба как ученого, получилось как два медведя в одной берлоге. И здесь он, обнаружив болезненную ранимость Глеба, начал на него давить. Глеб был в очень тяжелом состоянии. Вскоре, слава Богу, по молитвам (не родителей ли?) Глебу удалось уйти от Казимирова, и он получил самостоятельный отдел во ВНИГНИ.
Так шли годы работы отца Глеба.
Надо сказать, что связь его с архимандритом Иоанном (Вендландом) временно прекратилась, потому что тот был в 1957 году послан в Дамаск, в Антиохию. Потом его сделали архиереем, в дальнейшем он стал Экзархом Средней Европы с кафедрой в Берлине, а в 1962 году — Патриаршим Экзархом Северной Америки.
С ним иногда виделся Женя, который был в Ленинграде настоятелем Троицкого и Князь-Владимирского соборов, а также, будучи сотрудником Отдела внешних церковных сношений, был благочинным приходов Московского Патриархата в Финляндии. Владыка его о нас спрашивал, но видеться с нами не мог. Однажды он собрался прийти к нам на старую квартиру, когда был проездом в Москве. Глеб ходил встречать его к метро “Динамо”, но Владыка увидал за собой “хвост” и к нам не пришел. В Москве мы продолжали ходить в Обыденский храм, где были под руководством отца Александра Толгского, а в дальнейшем — отца Александра Егорова (†2000).
В 1967 году митрополит Иоанн вернулся в Россию и занял Ярославскую кафедру. Перед отъездом в Америку он купил себе в Переславле-Залесском часть небольшого дома, чтобы быть где-то прописанным. Для него было очень удобно, что его личный дом оказался в его епархии.
Когда он стал митрополитом Ярославским и Ростовским, то стал жить в епархиальном доме. Это был старый двухэтажный деревянный купеческий дом. В начале 70-х годов к нам как-то приехал мой племянник Дима Амбарцумов, теперешний отец Димитрий. Он был студентом-заочником, семинарию кончал в Сергиевом Посаде. Глеб попросил его съездить в Ярославль и поговорить с Владыкой. Дима приехал туда, встретился с Владыкой. Владыка очень обрадовался и лично Диме (он знал их семью и даже помогал им в свое время, после смерти моего брата), и весточке от нас. Он сказал Диме, чтобы Глеб, когда хочет, к нему приезжал, Глеб к нему поехал в ближайшие субботу-воскресенье и с того времени стал ездить регулярно и жил у него в епархиальном доме по одному-двум дням. И я туда ездила; как-то мы с младшими ребятами (с Машей и Васей) даже ездили туда на елку. От елочного подарка остались игра “уголки”, в которую теперь играют внуки и уже правнуки. Вот так у Глеба восстановилась связь с владыкой Иоанном.
В 1972 году Владыка неожиданно попросил Глеба нарисовать план нашей квартиры, и когда Глеб ему его представил, то Владыка увидел, что у нас есть комната, которая находится внутри квартиры и не граничит с соседними квартирами. После этого он предложил Глебу стать священником… тайным. Это никакая не катакомбная церковь10, это Церковь наша, Московская Патриархия, потому что отец Глеб поминал митрополита Иоанна как правящего епархиального архиерея и Святейшего Патриарха, тогда здравствовавшего патриарха Пимена.
И еще надо добавить, что когда владыка Иоанн предложил Глебу стать священникам, пресвитером, то первое, что он сказал, — это что должно быть мое согласие. И Глеб приехал и спросил меня, согласна ли я, и я свое согласие дала. А без моего согласия ничего этого бы не произошло, — иначе как бы Глеб сам, без моего участия (может быть даже правильнее сказать, без участия всей нашей семьи) смог бы совершать службы, принимать своих духовных детей и таким образом служить нашей Церкви.
Глеб, конечно, сказал, что он недостоин. Владыка ему ответил, что достойных вообще нет, и добавил: “Я считаю, что самый достойный, кто стоит у престола — это архимандрит Михей” (теперешний архиепископ Ярославский и Ростовский), и Глеб согласился. Я не помню, до этого или после Глеб отвез меня в Переславль-Залеский, где я заново познакомилась с Владыкой, а потом уже стала ездить к нему в Ярославль, в его епархиальный дом. И вот, в день Трех Святителей, 12 февраля 1972 года, Глеб был тайно посвящен в диаконы в домовой церкви епархиального дома. Приехал он очень радостный. Мы об этом никому не говорили. Дома во время молитв он стал возглашать диаконские ектеньи.
А 19 марта Владыка рукоположил Глеба в пресвитера. Это было в воскресенье, в этот день Владыка служил в Федоровском кафедральном соборе Ярославля. Он кого-то рукоположил во священники, а затем ушел в другой придел, якобы исповедовать Глеба, и около жертвенника рукоположил его в иерея. Глеб сразу почувствовал большую перемену в себе, со слезами на глазах слушал потом поучение Владыки, которое внешне обращалось только к одному молодому священнику.
Глеб вернулся домой; что он стал священником, мы сказали только старшим детям. Это было где-то в середине поста. И вот, в Лазареву субботу мы совершили первую Литургию. Перед этим все нужно было организовать, то есть из ничего сделать храм. Как? что? — мы ночи не спали. Все надо было делать скрыто. Я ему сшила полотняный подризник, как длинную ночную рубашку; он всегда лежал у меня среди белья. Потом из полосок сделали епитрахиль. Фелони у него не было; был большой плат, который застегивался спереди английской булавкой, сзади пришивался крест, и получалась фелонь. Слава Богу, нашелся большой фужер, который стал Чашей; другой фужер стал дискосом. Окно его кабинета завесили всем, чем только можно. Потом повесили белые пикейные одеяла, закрыли все наши фотографии над столом Глеба. По краям стола и тумбочки положили тома его докторской диссертации, а на них — полотенца, и поставили иконы; получился как бы маленький алтарь. Для Престола был куплен большой этюдник.
На первой литургии были только я и старшие дети (Сережа и Ваня). Я пела, мальчики начали учиться читать. Так началась наша домашняя церковная жизнь. Младшие дети (Мария и Василий) еще не знали о том, что папа стал священником. Матушка Иулиания в своих воспоминаниях пишет о том, что когда ей было 11 лет, она очень хотела попасть первый раз в жизни на Пасхальную заутреню. До этого ее никогда не брали, а в этот год обещали, что возьмут. Мальчики вместе с Сашей уехали в храм, но кто-то из них остался, не помню, Кирилл или Ваня, а Машу и Васю уложили дома спать. Маша была очень расстроена. В 12 часов мы разбудили ее и сказали: “Пойдем к папе в комнату”. Она вместе с Васей пошла в папину комнату и не могла ее узнать; эта комната превратилась в храм. И они поняли, что папа — священник. Так прошла наша первая заутреня дома.
И начались наши домашние богослужения, началось папино священническое служение.
* * *
Отец Глеб продолжал работать в ВНИГНИ (Всесоюзный геологоразведочный нефтяной институт) на должности начальника отдела. По работе была большая нагрузка, он руководил всесоюзными научными проектами, к которым привлекались коллективы из геологических институтов, расположенных в разных городах Советского Союза. Часто приходилось ездить в командировки. Потихоньку у него появились духовные дети, но он не объявлял в открытую всем знакомым, что стал священником. Мы об этом все молчали, говорили только тем, кто в данный момент нуждался в его пастырском окормлении. Ведь в это время, в 70-е годы в церкви нельзя было вести беседы со священником, это запрещалось. Если священник начинал уделять кому-то много времени, особенно из молодежи, то его могли лишить регистрации или перевести в другой храм. И вот, у нас дома стали появляться люди. Он крестил жен некоторых наших друзей, потом венчал их; крестил еще взрослых людей. Постепенно они стали появляться у нас дома на богослужениях. Конечно, мы не могли поместить много народу в его кабинете, который превращался в храм; самое большее — три человека. Все это делалось под секретом: никаких дополнительных звонков, так случайно где-то в разговоре скажешь: “Ну, приходите завтра чайку попить”, или что-нибудь в этом роде. Установка была такая, что они должны были приехать к восьми часам, а если опаздывали, то их уже не пускали. Когда шла служба, мы включали радио в кухне и, если можно было, даже в другой комнате. Служба велась вполголоса. Большей частью, конечно, мы служили литургии, потому что всенощные все-таки очень трудно вести. По существу я одна вела службу. Петь вполголоса всю всенощную было трудно. Ребятки мне немножко подпевали, но гласы и прочие особенности церковного пения они не знали. Они в основном читали.
Мы решили, что наш храм будет в честь Всех Святых в земле Российской просиявших, что это у нас будет престольный праздник. На престольный праздник к нам всегда приезжало побольше народу. В этот день мы обязательно служили всенощную и по очереди читали канон Русским Святым.
Практически папа служил каждое воскресенье. Отец Александр Егоров из храма Илии Обыденного заметил, что Глеб стал как-то по-другому к нему относиться и перестал у него исповедоваться. Ко всенощной мы всегда ходили в этот храм, исповедовались у отца Александра, а потом дома причащались.
Самое, конечно, замечательное бывало — это Страстная неделя. С вечера среды наша комната превращалась храм и оставалась им до самого Светлого Христова Воскресения. В среду вечером служили службу, в четверг утром служили Литургию четверговую, вечером — 12 Евангелий. Обыкновенно с нами оставался кто-нибудь из мальчиков: Вася, Кира или Ваня. Сережа тоже участвовал в домашних богослужениях, он бывал всегда, когда у нас была Литургия (в 1975 году он женился и стал жить вместе с родителями жены).
Страстная неделя… Нужна Плащаница. Где нам ее взять? И тут мы взяли лик Спасителя с Туринской Плащаницы, положили его на картонку, все кругом обвили белой лентой, так что остался только Лик. Снизу укрепили красный бархат, и у нас получилась очень хорошая Плащаница, которая все годы нам служила.
И так было замечательно, когда откроешь дверь, подойдешь, приложишься к Плащанице и пойдешь… Все время горят лампады… Но это, конечно, можно было только на Страстной. И так было обидно, что на Пасху уже надо было все разбирать. Так что церковь у нас бывала только на больших праздниках и в субботу и воскресенье.
Так шла наша жизнь. Отец Глеб приезжал вечерком, кто-нибудь к нему приезжал, поужинаем, а потом, часов до одиннадцати, исповедь. Отец Глеб всегда очень долго исповедовал и дома, и в дальнейшем, когда служил в московских храмах. Я даже жаловалась Владыке, что очень долго люди сидят, а Глебу Александровичу надо на другой день идти на работу — он же все время занимал ответственные посты.
Но надо сказать, что как только он стал священником, у него принципиально изменилась обстановка на работе. Как всегда бывает в духовном мире, когда человек много получает благодати, на него обрушиваются всякие мирские нападки; отец Глеб в дальнейшем всегда это подмечал. Незадолго до принятия сана в 1971 году у него был юбилей, исполнилось 50 лет. К этому времени у него была практически готова докторская диссертация, он пользовался огромным уважением и любовью сотрудников. На юбилей ему преподнесли несколько адресов, которые хранятся в нашей семье. Ему посвятили стихи. Многие из сотрудников приехали к нам домой на празднование юбилея. По всему чувствовалось, что он пользуется огромным уважением и любовью. И вот прошел совсем небольшой промежуток времени, и обстановка в корне изменилась; начались серьезные трения в коллективе, который он возглавлял.
Незадолго перед этим в его институте обсуждался вопрос о назначении его на должность заместителя директора. Он мог бы стать директором одного подразделения — Института литосферы, но не стал, потому что у него не было партбилета. И вдруг его неожиданно невзлюбил министр геологии, который хотел сделать заведующим этой лабораторией своего зятя, а сотрудники сказали, что они хотят Каледу. И после этого министр изменил к нему отношение, и отец Глеб вылетел из редакции журнала “Геология нефти и газа”, в которой был много лет. Стали появляться разнообразные препятствия для защиты диссертации, в результате он ее защитил только в 1980 году и уже в институте нефти и газа имени Губкина. Его директор как-то заявил, что беспартийные доктора наук ему не нужны. В результате реорганизации института три отдела, которые возглавляли беспартийные, были преобразованы в сектора; соответственно он понизился в должности и перестал быть членом дирекции института, однако в зарплате, что для нашей большой семьи было важно, ничего не потерял.
Отец Глеб продолжал служить, дети у него духовные прибывали… И тут произошло большое событие. У нас был отец Павел Троицкий из Данилова монастыря, у которого после отца Георгия (священномученик Георгий (Лавров) — Л. К.) были мои родители. До войны было два поразительных случая, свидетельствующих о его прозорливости. Старший брат моего отца (Аршак) получил возможность построить дом в дачном поселке под Москвой. Он предложил моему отцу принять в этом долевое участие с тем, что первый этаж будет теплый и мы сможем там жить зимой, а когда они будут приезжать на лето, мы будем перебираться на второй этаж. Мой отец согласился. Помню, деньги нужно было вложить большие (3 тысячи рублей), и мы очень сильно ощущали это на своем бюджете. И вот наступил 1937 год — дядя сказал, что осталось немного: утеплить фундамент, сделать печь (что будет сделано летом), и мы весной уже сможем въезжать в этот “немного недостроенный” дом. Родители обратились за благословением к отцу Павлу, но он их не благословил. Мы не поехали — дядя был в недоумении. Но дом так и остался недостроенным и непригодным к тому, чтобы там жить зимой. В сентябре папу арестовали, и если бы не благословение отца Павла, к зиме бы мы остались и без денег (они были бы вложены в строительство), и без жилья.
Второй случай связан с моим братом Евгением, в то время студентом филологического факультета педагогического института. Летом 1937 года один наш близкий знакомый, духовный сын моего отца, предложил брату принять участие в очень интересной экспедиции. Предполагалось спускаться на лодках по каким-то северным рекам и собирать фольклор. Отец Павел не благословил, брат отказался от поездки, чем вызвал смущение. Но если бы брат уехал в экспедицию, он бы не смог провести с отцом последние недели перед его арестом и последовавшей мученической кончиной.
И вот мы все считали, что отец Павел уже умер, и я молилась за него как за умершего. И вдруг проносится слух, что отец Павел жив, что он где-то в затворе. В это время умирает отец Роман Ольдекоп, который тоже был тайным священником, посвященным еще митрополитом Мануилом, и жена его спрашивает у отца Павла, кому передать священные сосуды, облачение и другую церковную утварь. И отец Павел говорит, что надо передать мужу Лидочки, отцу Глебу. Меня он еще маленькую, до войны знал, а отца Глеба вообще никогда не знал; он с семьей Калед не был даже знаком. Так мы попали под духовное руководство этого старца и прозорливца, о котором сейчас много пишут, и, видимо, скоро его канонизируют.
Отец Глеб пишет ему письма… Я тоже ему написала письмо, радуясь, что он жив, но больше ему не писала. Отец Глеб пишет о своих трудностях, хочет с ним встретится. Но тот сказал, что встретимся мы только на том свете: он был в затворе и никто из тех, кого он руководил, его не видел.
И вот в 83-м году отец Павел пишет, что “есть Воля Божия уходить Вам на пенсию”. Да, отцу Глебу как раз исполнилось 60 лет. Это было 1 августа. Правда, осенью, в сентябре, он написал ему, что еще рано оставлять работу… А в 88-м году было сказано, что нужно подождать объявлять о себе.
А в 87-м году папа неожиданно объявляет на работе, что уходит на должность профессора-консультанта, то есть на полставки. Все ошеломлены: Глеб Александрович, полный энергии, сил, как говорится, умная голова, и все это знают… И вдруг Глеб Александрович, ничем не болея, объявляет, что он становится профессором-консультантом. Все были поражены, кто-то даже назвал его предателем.
А вот что произошло после смерти Патриарха Пимена в 90-м году, когда Патриархом стал Алексий Второй. Владыка Иоанн перед смертью дал отцу Глебу ставленную грамоту, что он его посвятил в священники; правда, он указал не 72-й год, а какой-то более поздний. И отец Глеб решил, что ему надо окончательно уходить на пенсию и переходить на открытое служение в Церкви.
Это, конечно, было сложно. Он стал консультироваться со многими священниками, например, с покойным владыкой Сергием (Соколовым)11. Тот всячески старался познакомить его с кем-то, кто мог бы оказать помощь в выходе на открытое служение. Приехал владыка Герман (сейчас он митрополит Волгоградский, а тогда был за границей). Глеб ему сказал, что он священник. Владыка говорит: “Я Вас возьму к себе”. Но в это время он был за рубежом, а когда вернулся, отец Глеб уже вышел на открытое служение. Ему говорили, что Патриарх Алексий очень ценит ученых, ему нужны образованные священники. Отец Глеб советовался с отцом Александром Салтыковым, который ему сказал, что знает человека, который близок к Патриарху. Этим человеком оказался отец Иоанн (Экономцев). Вскоре отец Глеб познакомился с отцом Иоанном и через него в августе 1990 года подал прошение Патриарху. По словам отца Иоанна, Святейший очень положительно отнесся к папиному заявлению, но никакого распоряжения не последовало; папа оставался профессором-консультантом во ВНИГНИ и очень удручался, что нет никакой реакции.
В середине сентября Святейший Патриарх Алексий объявляет, что с 1 октября больше разрешение на рукоположение у уполномоченных спрашивать не будут, и что Церковь больше уполномоченным не подчиняется. В самом конце сентября к нам домой позвонили из канцелярии Святейшего и сказали, что на 1 октября он вызывается к владыке Арсению, который ему сообщил, что Святейший благословляет его переходить на открытое служение. Он пошел за документами к отцу Матфею (Стаднюку). Отец Матфей удивляется: “А служить-то, — говорит, — Вы умеете?”. Отец Глеб говорит, что он служить умеет, но только не панихиды и молебны, потому что в каждом храме они служатся по-своему. И его для практики направляют служить к Илье Обыденному.
Он приходит туда в пятницу, в рясе с крестом, передает документы настоятелю. Отец настоятель удивленно на него смотрит. Его увидел староста (Виктор Иванович Горячев) и говорит: “Что это Вы как нарядились?”. Отец Алексий, настоятель, предложил ему идти читать с ним вместе Акафист, так что открытое служение отца Глеба в нашей Русской Православной Церкви началось с чтения Акафиста “Нечаянной Радости” в храме Илии Обыденного. Окончательно из ВНИГНИ отец Глеб уходит в январе 1992 года, хотя новый директор даже предложил ему совмещать священническое служение с научной деятельностью, но он от этого отказывается и уходит окончательно на служение Церкви.
Ну вот, отец Глеб и вышел на открытое священническое служение Русской Православной Церкви.
Если я не успею достаточно сказать о его последних бурных четырех годах жизни, то это хорошо знают дети. А мне хочется вернуться к старому и попробовать обрисовать наши внутренние отношения и жизнь нашей большой и хорошей семьи.
* * *
Некоторое дополнение к сказанному ранее.
Когда Глеб учился в школе, он очень увлекался географией и хорошо ее знал, много читал о северных экспедициях. Он даже получил премию от газеты, потому что “провел” корабли по всем северным морям от Мурманска на восток. Зная географию очень хорошо, он всегда обличал нас в том, что мы географию совершенно не знаем. Так, однажды, когда он был вместе с А. Л. Дворкиным в Греции, он сказал, что дует какой-то ветер (конечно, не помню, пассат или муссон). А Дворкин спросил его: “Откуда Вы знаете?”. Он рассердился: “Это же проходили в пятом классе!”. Отцу Глебу было уже 70 лет, а он все еще это помнил.
* * *
Итак, вернемся к нашей семье, к нашим взаимоотношениям с Глебом. Не было времени, когда он бы не занимался. И вот он пишет в письме (кажется, в 63-м году): Мы никогда не надоедали друг другу. Может, это из-за наших частых и длительных разлук. А ты когда-нибудь отдыхала от меня? Я от тебя — нет. Иногда вечером ты мне немножко мешала работать своими частыми заходами. Мешала сосредоточиться. Но твои заходы ко мне приятны были мне. Я тебя очень хорошо понимаю.
Когда дети стали подрастать, Глеб стал заниматься с ними Законом Божиим (но это уже когда дети были побольше, когда их у нас было, скажем, трое). Несмотря на такую большую занятость, он находил время, чтобы побыть с детьми. Может быть, первые его занятия были даже не столько церковные, а он, например, читал им Маршака (“Теремок” читал в лицах), читал “Петрушку” в лицах, очень часто читал Алексея Константиновича Толстого. К сожалению, в то время не было принято вот так записывать все, и мы не записали голоса отца Глеба.
Правда, голос отца Глеба у нас записан в его интервью и так далее, но голос этого чтения записан не был. А он так оригинально читал им “Петрушку” и “Теремок”, что однажды Кирилл пришел к тете Шуре Филиновой, и она стала ему читать “просто так”, как говорится, монотонно, а он ее отстранил и говорит: “Нет! Читать надо не так!”. И стал показывать ей, как читает папа: в лицах и в действии.
Глеб очень много играл с детьми, любил подбрасывать их, переворачивать, перекручивать, изображать всяких животных. То он изображал верблюда (кто-то на нем сидел), то слона, и они шли и обливали кого-то водой. Есть такие фотокарточки, а у Саши даже есть такая игра, где надо подбирать одинаковую тему: присутствующим раздаются карточки с разными темами, и надо подбирать одну; там есть папа — слон, папа — средство передвижения, папа — верблюд…
Так что папа никогда не входил в дом спокойно, без того чтобы сразу кого-нибудь не перевернуть и кого-нибудь не подбросить кверху. Это он делал и с другими детьми. В частности, когда он приходил к нашим близким друзьям Гоманьковым, то мальчишки от него прятались, а Ольга бежала к нему радостная, зная, что он сейчас подбросит ее под потолок.
А когда дети подросли, то у них уже начались регулярные занятия по истории: по Библии, по Евангелию… Несмотря на свою занятость, отец Глеб практически никогда не пропускал этих занятий. На них иногда присутствовал кто-то чужой, но, это все, конечно, было шепотом и втайне.
Когда пошли дети, у нас почти не было отпусков, чтобы мы куда-то поехали вдвоем. Правда, в 68-м году, с настояния моего брата, мы были вместе. Это было так: Глеб был заместителем председателя Комиссии по осадочным породам Академии Наук, и геологи этой комиссии решили устроить экспедицию на корабле, и мы плыли от Москвы до Медвежьих Гор, до Кижей, а по дороге все время читались геологические лекции, так что даже персонал перестал нас называть “товарищи туристы”, а называл нас товарищами геологами. Это было очень интересное путешествие, но самое главное, что мы с Глебом имели отдельную каюту. Глеб плыл бесплатно, а за меня надо было заплатить. И тут вмешался Евгений, наполовину заплатил за меня, помог раскидать детей. Младшие остались у тети Кати Тутуновой, старшие где-то еще, Ванька как-то один… а мы плавали. Конечно, к нам все время все приходили, потому что Глеб был начальником, но все-таки у нас было что-то отдельное, и путешествие было замечательным.
Еще однажды мы с ним (правда, уже позже, когда он был священником) попали в санаторий под Можайск. Здесь мы были совсем одни. Не помню, сколько времени мы там жили, наверное, недели две-три, и у нас была отдельная палата, далеко и в тишине… Мы только утром завтракали, делали процедуры, которые полагались (кстати мне они помогли, потому что у меня полгода ноги не болели), и отправлялись гулять. Глеб мог уходить очень далеко, а я нет, но все равно мы уходили в лес, в кустарник, по праздникам вычитывали всенощные, обедницы, сидя на лавочке, имея две-три подсобных книжки и, пользуясь своею памятью, тихонечко совершали богослужение. Так мы бывали одни.
Глеб много писал. Когда он уезжал, то писал письма, но в них в основном была сплошная геология. Он не был таким эмоциональным, чтобы осыпать меня какими-нибудь ласковыми прозвищами, “лапочка моя”, или еще что-нибудь… Нет, этого не было. Я знала, что он меня любит, и для меня этого было вполне достаточно. Но вот в письмах у него иногда вдруг проскакивает, довольно редко… Дорогая моя, несравненная Лида, друг мой родной, жена моя любимая, сестра моя, бесконечно близкая, помощница моя. Для него я всегда в первую очередь оставалась сестрой. А сестра — это все.
Он придавал очень много значения взаимоотношениям мужчины и женщины. Вот в одном письме он пишет (в 63-м году):
Взаимоотношения мужчины и женщины, сделавшихся мужем и женой, должны проходить несколько естественных стадий. И каждая эта стадия должна быть не мгновенная, чтобы она была осознанной и естественно подготовленной к восприятию следующей (стадии) их взаимоотношений.
Вспомним наше прошлое. Друзья. Длительная стадия. Любовь. (Но не влюбленность). Любовь — новая стадия, глубокая потребность друг в друге.
Невеста, жена, сестра. Эта стадия должна быть длительной. Она прекрасна. Это — новая стадия близости и любви, углубления взаимоотношений, проникновения души, углубления состояния безраздельно и навеки принадлежащих друг другу. И, наконец, вхождение друг в друга, близость тел. После каждого раза твои глаза преображались, они светились радостью, и я любил эту светящуюся радость твоих глаз.
Юношам и девушкам надо говорить об этой прекрасной стадии “жены-сестры”, “мужа-брата”, и, естественно наступающей затем, “мужа-мужа” и “жены-жены”. Осознание стадии идет <как> восхождение по лестнице и не меняя перегородок <?>. Мне думается, мы стали бы беднее в наших взаимоотношениях, если не было бы двухнедельной или хотя бы недельной стадии “жены-сестры”. Эти не внешние требования — не проверка требований, а <они> направлены на пользу ощущения брачного счастья. К сожалению, об этом вступающие в брак совершенно не думают.
Новая стадия — ожидание первого ребенка. Жена становится уютной, от нее начинают исходить умиротворяющие флюиды. Плохо, что мы в этом блеске суеты, в круговороте не осознаем этих наших взаимоотношений. Осознание их углубляет и поэтизирует жизнь.
И вот где-то еще он пишет:
Я не баловал тебя. Дорогая моя Лидочка, спутница жизни, неотрываемая часть моего существа. Моя половина. Мое восполнение до целого. Живу, как неотрезанная часть яблока.
Чем дольше мы с тобой живем, тем ты становишься необходимей, моя радость, моя поддержка, моя любовь. Моя нежная, моя заботливая, моя дорогая. Я не баловал тебя словом нежности, прими их сейчас после нашего более чем полувекового знакомства. В жизни мы проросли друг в друга уже могучими корнями.
Сижу в люксе и смотрю на крыши старого Оренбурга и зауральские дома и думаю о тебе, о детях.
Это 82-й год.
Так вот и продолжалась наша жизнь.
Об изменении его отношения ко мне можно узнать еще и по надписям на фотокарточках.
Дорогой любимой Марии Алексеевне, сестре и другу Лиде от азиатского бродяги. Осень 48 года. Глеб.
Дорогому другу моему и любимой сестре Лидии. Январь 1951 года. (Письмо о браке уже отправлено.)
Дорогому другу, сестре, жене, неотрывной части меня самого, той, с которой полвека идем вместе, меняя и углубляя наши отношения, моя родная, любимая, радость и опора. Твой Глеб. 78 год. (Это он уже священник).
Все мое — твое. Что было бы со мной без тебя, моя неотъемлемая. 55 лет в разных формах мы идем с тобой совместно дорогами жизни. Мое от моего <?>, тебе от твоего. Это март 85 года.
Вот маленькая подпись на фотокарточке. Октябрь 90 года.
Дорогой неотделимой жене, сестре и спутнице верной, без которой мне жить лучше в жизни моей было бы невозможно. С любовью и благословением. Твой иерей Глеб.
Последняя его фотокарточка:
Дорогому шестидесятилетнему другу, любимой сорокалетней жене, верному спутнику и помощнику, с которой мы проходили вместе все перипетии нашей жизни в бурном и сложном 20-м веке от Рождества Христова. С супружескою и братской любовью во Христе. Твой иерей Глеб.
Так вот прошла наша жизнь, — слава Богу, большая, потому что мы прожили с Глебом 43 года, зная друг друга 63 года. Глеб все хотел отпраздновать 60-летие нашего знакомства, но как-то это все-таки не удалось.
Когда ребята подросли, Глеб уже больше стал заниматься богословием. Он много писал, и у него была так называемая “ñåрая папка”, — о происхождении жизни, она начата была еще при жизни моей мамы. И мама говорила: “Тебя очень будут бить за то, что ты ее не кончаешь”12.
Жизнь наша слагалась так: я хоть и была зоологом, но бросила зоологию, и в экспедициях мне было несколько грустно, что я никак не могу привыкнуть к геологии, что огорчало Глеба. Как-то, увидав какую-то зверюгу, я даже расплакалась. Но возвращаться в зоологию я уже не могла, потому что тогда я тоже должна была бы ездить в экспедиции, — а что же это за семья такая? И вообще мы считали, что жена должна быть дома.
Но я всегда помогала Глебу, и поскольку мы оба были естественники, мне, конечно, это было легче. Я бесконечно одним пальчиком (и больше, чем одним) печатала его работы, — черновики, конечно, потому что печатала я неважно, но все его труды и диссертации шли через меня.
Я не привыкла к тому, чтобы встать и начинать подметать пол, смахивать пыль с картин, потому что мне надо было отправить ребят кого в школу, кого гулять, заставить их чем-то заниматься, а потом я садилась за машинку. И это почти до самого конца; так же я собирала его докторскую диссертацию, подклеивала, подписывала фотографии… Все это лежало на мне.
Надо сказать, что когда папа занимался, все относились к этому с уважением. Папина комната, правда, запиралась и была немножко утеплена, чтобы не было так слышно. А запиралась она потому, что папа оставлял материалы на столе, а дети в малом возрасте могут ведь прийти и что-нибудь нарисовать.
Детям не разрешалось просто так орать, открыв рот; они могли разговаривать, играть, но… Как они нам уже взрослые говорили, мы не очень их терзали тем, что-де “тише, тише! папа занимается”. Они знали, что папа занимается, значит, надо вести себя прилично. Для них это не было тяжелым бременем. Но папа занимался всегда, по-моему, кроме Рождества и первого дня Пасхи.
Мы 6 лет жили на даче в Рассудово. Иногда все-таки случалось такое счастье, что папа брал отпуск. И в свободное время он сидел на чердаке и писал, без этого быть не могло… Он там рисовал картины; там висит березка, которую он рисовал, а около него прыгали Вася и Машенька маленькая. И у Васи осталась картинка: грибок такой плотный и земляничка: это — Вася и Маша.
Кроме того, он писал азиатские картины; у нас есть несколько его картин. Он, конечно, был любитель, но страшный критик, и однажды нарисовал такое красивое небо, но оно ему не понравилось, и он его стер, и больше оно у него не получилось.
Конечно, большим делом для сплочения нашей семьи и формирования хорошего воспоминания у детей были дневные походы в лес. У нас был один или два велосипеда, значит, кто садился на велосипеды, кто шел пешком, кто сзади ехал на коляске; это папа, значит, кого-то перебрасывал. Мы уходили иногда очень далеко, поэтому папа перебрасывал кого-то вперед на какое-то расстояние, потом возвращался за следующими. Так мы приходили в лес, там начинали готовить обед. Это уже делали дети, я была от этого освобождена, около меня малыши были и я могла отдыхать. Дети бегали всюду, собирали хворост. Есть такая фотография, где Кирюшка — кашевар, он там ворочает в казане эту самую кашу. Все это было очень вкусно, все было страшно интересно.
Однажды, правда, у нас такой случай произошел. Не помню, Васька-то был тогда или еще нет, но Машенька во всяком случае была еще совсем маленькая. Я задремала, проснулась: тишина. Кто-то спит… А где Маша? — Маши нет. “Маша! Маша!” — Маши нет. Ужас! Она в лесу могла заблудиться! Кричим: “Маша! Маша!”, все бегаем, и вдруг издали раздался крик. Вдали, вдали, вдали… И бросились мы бежать… Впереди бежал Сергушка, за ним папа, за ним я.
Бежали мы, бежали на этот крик и прибежали к мостику. Через маленький ручеек лежала доска, и около доски стояла наша Машутка и плакала, не зная, как перейти через этот мостик. Мы с радостью ее схватили; сперва ее схватил Сергушка, потом она перешла к папе, а потом ко мне. Такое было приключение.
Эти походы мы за лето совершали, может быть, раза два, потому что папа все-таки был очень занят и не всегда у него были отпуска, а часто на часть отпуска он все равно ездил куда-то в Апрелевку, в лабораторию. На это я сердилась, но вообще мы с ним никогда не ссорились, и никогда солнце не заходило во гневе нашем. Мы все-таки жили очень дружно.
Когда мы жили у Нины Ивановны (хозяйка дачи, которую снимали Каледы. — Ред.), Глеб стал отпускать меня к себе на работу, там был кружок шитья. Я ездила туда раз в неделю и научилась делать выкройки всякого белья и даже простых платьев. Это мне была дана возможность поучиться. Не помню, как-то меня там называли, надо мной посмеивались его сотрудники, но я сидела и шила.
Уже в 90-е годы, когда папа вышел на открытое служение, вышла его первая книжка, “Волхвы”. Он мне ее надписал: Дорогая моя матушка и спутница, помощница во всех моих путях и дорогах с их крутыми поворотами. Тебя дарю (непонятно) принимаю. Твой и. Глеб. Да, конечно, если б я не дала согласия на то, чтобы Глеб стал священником, он бы не мог им быть. А я согласие дала.
А вот теперь я несу на себе тяжесть… так мне грустно, что у нас дома нет больше богослужения. По субботам и воскресеньям стараюсь, когда дома, что-то вычитать, представляю себе нашу церковь, то, что было у нас здесь, — и не могу уехать из этой квартиры. Меня волнует, что с ней будет. Но Господь устроит все. Мне говорят: “Вы бы свою квартиру продали, такую нескладную”. Но мы продать нашу квартиру не можем. Мы не можем оставить комнату, в которой совершалась Евхаристия.
Надо отметить самое главное: отец Глеб с большой серьезностью, с большим вниманием, любовью относился к Литургии. Он всегда был серьезен в этот день. Он никогда в этот день никого не исповедовал (исповедовались люди раньше). После Литургии он выходил совершенно другой и за столом (мы обыкновенно пили чай с теми людьми, которые к нам приходили) никаких пустых разговоров не было. Их не могло быть.
И когда отец Глеб (еще до открытого служения) объяснял ребятам, скажем, проскомидию (наши-то ребята знали, в чем дело, но тут бывали и другие), я всегда говорила: “Ты ж себя выдаешь! Ты с такой горячностью рассказываешь ход проскомидии, что понятно: не может человек об этом говорить, только прочтя о том, куда ставится одна просфорочка, куда другая, куда третья”. Вообще-то очень многие глубокие люди, бывая у нас, определяли, что отец Глеб — священник.
Большим увлечением Глеба с детьми были лыжи. Глеб, когда остался без мамы, обходил на лыжах все Подмосковье, он прекрасно катался, и поэтому, где бы мы ни были, лишь бы был снег, а Глеб всегда был на лыжах. И начинались эти лыжи для детей с того, что к его лыжам привязывались санки, поставленные на лыжи. Это еще было на “Заветах Ильича”, когда он привязывал к себе маленького Сережу, а потом за городом всегда первое дело детям — лыжи. Как бы мы бедно ни жили, как бы нам трудно ни было, но всегда у всех были лыжи, крепления, ботинки. Когда мы жили на старой квартире, они ходили в Петровско-Разумовский парк, а здесь и вообще-то рядом: перебежал дорогу — и до леса добежал.
Вот, значит, становится Глеб Александрович: сзади на лыжах — санки, на санках привязан малыш… Дальше стоят дети на лыжах и каждый держит шлеи в руках, а все эти шлеи держит Глеб. А сзади уже идут старшие дети. Вот такая вереница. Однажды где-то он ехал, может быть, в Тимирязевском парке, и кричит: “Дорогу, дорогу!”. Так люди спрыгнули с лыжни. “Ой, — говорят, — Глеб Александрович несется со своей командой!”.
Надо сказать, что наши дети всегда по лыжному спорту в школах занимали первое место. Этот вид спорта отец Глеб признавал, а другие как-то не признавал, некогда ему было.
Еще у нас велосипеды были; за городом это было нужно, потому что всегда нужно было куда-то ездить. И я ездила на велосипеде (с детства — на мужском). А когда мы приехали в Москву, Глеб купил мне велосипед, решив, что мы с ним тут совсем недалеко от окраины, можно раз-раз — и уехать в лес. Но, увы! Бабушка на велосипеде, как сказал кто-то из детей на улице (хотя тогда мне было за 40, не так уж много)! Я не могла психологически справиться с улицей, я пугалась, хотя движение было не то, что сейчас. Был, может быть, один автобус, но если какая-нибудь одна машина едет, я ее за километр вижу и уже боюсь, что не в ту сторону буду крутить. В общем, кататься на велосипеде я перестала. А мой велосипед у Кирилла утащили где-то в экспедиции.
Мой брат говорил: “Конечно, известно, что вы все верующие, только, пожалуйста, никогда не устраивайте демонстрацию”. Поэтому я и не выстраивала шесть человек детей, чтобы мы двигались в церковь, хотя в церкви все знали, что Сережа с Ваней и, скажем, Сашенька — мои дети, и младшие тоже. Обыкновенно под праздники у нас (в храме Илии Обыденном — Ред.) бывало две всенощные, поэтому, к одной всенощной ехали одни, к другой — другие. Даже когда дети были очень маленькие, мы около метро менялись детьми, и кто-то с маленькими шел домой, а остальные ехали в храм. Так же было, когда Сергушка был совсем маленький. Помню, в Великую субботу мы “передавали” его около Красных ворот: Глеб шел с ночной службы, а я ехала к обедне, и этот кулечек был передан ему в руки.
Вот так прекрасно проходила наша жизнь.
Когда папочка умирал, вышла его “Туринская плащаница”, его детище. Я подсунула ему оттиски для всех, чтобы он оставил каждому из детей свой автограф13. Но вот что он написал мне почерком, который узнать совершенно невозможно:
Дорогой спутнице жизни, жене, другу, терпеливой и верной помощнице жизни моей с ее иногда неожиданными поворотами. Самому близкому мне человеку — жене, сестре. Твой иерей Глеб.
Личные воспоминания мне хочется кончить одним письмом, написанном в 93-м году:
Всю жизнь мы прошли вместе. Пережитое… Но разве все можно отлить в шкалу слов, а так, осматриваясь назад, встает и 30 год, и все последующие годы вместе до 37 года и далее.
Часы на Лубянке — это часы ожидания и часы нашей дружбы. Война, которая отложила такой глубокий след во всех нас, переживших ее, и в нас особенно. Мы вышли из нее другими друг к другу, чем вошли в нее. Крепко тебя обнимаю и целую.
Это он пишет из больницы, когда он там лежал, как думали, с инфарктом; к счастью, это был не инфаркт.
Самым последним, самым глубоким моим переживанием с Глебом стала последняя наша Пасхальная служба.
В 94-м году в марте папе была сделана раковая операция. В апреле он приехал домой. И тут же все стали звать его, думать, как его отвезти на Литургию (он очень был слабенький). Хотели его отвезти в Петровский монастырь, звал его отец Георгий в Ховрино… Но он подумал и сказал: “Давай побудем с тобой вместе, как это было раньше”.
Служили в большой комнате, а не в его кабинете как раньше. Отец Глеб был в своем любимом белом облачении. Он сидел в кресле и служил, а я пела и тихонько плакала, потому что понимала, что это — последняя с ним заутреня. Отслужили мы заутреню, потом обедницу. Отец Глеб причастился сам и причастил меня. И этим хотелось бы кончить этот очерк: его последняя Пасха. Однако продолжу.
Прекрасно заключение отца Глеба в его книжке о Туринской Плащанице, совершенно замечательное, где он пишет, что, проведя столько лет над сбором материалов по Плащанице, он вложил персты свои в язвы гвоздинные Господа. А кончает он тем, что “когда на нас находит уныние, вспоминайте, что Христос воскрес”.
Христос воскрес, дорогие братья и сестры!
Это у нас есть еще такая прекрасная маленькая пластинка с приветствием отца Глеба своим духовным детям в день Пасхи, его последней Пасхи.
* * *
Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя.
Так говорит пророк Иеремия, первая глава, 5-й стих.
Этот эпиграф поразил меня сегодня, когда я открыла “Альфу и Омегу” № 23 за 2000 год, где говорится о чуде отца Глеба в 30-е годы, если так можно сказать, когда он явился во сне заключенному и посоветовал ему остаться в обслуге лагеря, и таким образом спас его жизнь. Это чудо было рассказано отцу Иоанну, который посещал внука этого человека. Но подробнее смотрите в этом номере, стр. 72. Значит, отец Глеб уже тогда был посвящен и определен Господом как Его верный служитель.
А в 56 году, когда вышло в свет первое за советское время издание Библии на русском языке (она была подарена будущему отцу Глебу двумя пресвитерами), там было написано такое пожелание:
От двух — третьему в память общей теплой беседы.
С любовью и надеждою. 7 декабря 56 года.
Протоиерей Сергий Никитин и иерей Евгений Амбарцумов.
Отец Глеб достиг больших высот в своем духовном восхождении. По словам Андрея Ивановича Иванова, жену которого отец Глеб крестил у нас дома и их венчал, отец Глеб говорил ему, что видел в потире Агнца.
И в письмах заключенных, которые мы сейчас получаем, очень много говорится об отце Глебе. Один из них, Саша Сидней, который находился в камере смертников Бутырской тюрьмы и которого отец Глеб привел к вере, написал письмо матушке Александре Глебовне Зайцевой, нашей дочери, узнав, что она дочь отца Глеба, — он написал письмо о том, что было однажды, когда отец Глеб пришел к нему в камеру. Отец Глеб сидел на топчане, а он сидел на другой стороне. Отец Глеб ему говорит: “Ты чего сидишь так далеко. Иди сюда”. Посадил его рядом с собой, обнял, прижал к себе, и Саша начал ему все рассказывать. А другой раз он примостился у ног отца Глеба на полу и слушал его беседу. И вдруг он увидел, что отец Глеб весь просиял неземным светом, и это продолжалось несколько минут.
Я уже говорила, что 2 октября 90 года отец Глеб вышел на открытое служение, пришел в пятницу в храм Ильи Обыденного, и первая его служба — чтение Акафиста “Нечаянной Радости”. А уже на Покров отец Глеб назначается священником на Патриаршую службу в храме Василия Блаженного, проводит исповедь всю вечернюю службу и утреннюю службу, а потом участвует в крестном ходе вокруг храма.
Он много очень служит в Обыденном, причем не то чтобы в один день, скажем, утро и вечер, а все по разным дням, и иногда до 15 служб в неделю. Все это он нес очень терпеливо. Будучи младшим священником, он старался держаться скромно: не принимал многих на исповедь, а отсылал к тому священнику, у которого кающийся бывал раньше. Ему здесь было очень трудно.
Кроме того, он привлекается к работе в Высоко-Петровском монастыре и в январе 91 года зачисляется на должность начальника Сектора религиозного просвещения и катехизации. Он организует катехизаторские курсы и считает, что они обязательно должны быть открыты в 91 году и почему-то 4 февраля. Это было достигнуто, хотя и с большим трудом, потому что очень трудно было с помещением. Отец Глеб набирает туда преподавателей, в основном из московского духовенства, и возглавляет эти курсы.
Ему, конечно, трудно было совмещать и пастырскую работу в храме и работу на курсах, тем более что он очень ответственно к ней подходил: ходил на занятия, слушал лекции… Он же все-таки, как говорится, имел определенную школу работы в учебном институте.
Пасху 91-го года отец Глеб еще был в Обыденном, а потом окончательно оттуда ушел. В это время открыли храм Преподобного Сергия в Крапивах, в Крапивенском переулке. Отец Глеб начинает служить там, ведет большую работу по катехизации, организует Рождественские Чтения…
* * *
В 91-м году впервые организуется семинар “Развитие высшего образования на современном этапе в условиях рынка”. Этот семинар проходил на теплоходе “Виссарион Белинский”. Маршрут был такой: Ленинград — Петрозаводск — Валаам — Кижи — Ленинград, с 28 июня по 2 июля. На этот семинар были приглашены в основном директора научных институтов, заведующие кафедр, в общем, ученый народ, и несколько священников: отец Владимир Сорокин, тогда ректор Ленинградской Академии и семинарии с супругой, отец Иоанн Свиридов и отец Глеб со мной.
Впервые священники появились среди ученых. Ходили они в рясах; правда, молитв общих не было, но было много разговоров. Священники делали доклады… И мы были и в Кижах, и на Валааме… На Валааме в это время был наместником отец Андроник (Трубачев); он был знаком с отцом Иоанном Свиридовым. Поэтому когда мы приплыли на Валаам, то нас встретил отец наместник на машине и возил по острову. Мы ездили по всем уголкам, не участвуя в общих беседах. Все это было очень интересно; правда, я уже плохо ходила, и меня таскала под руку матушка отца Владимира.
А потом мы даже сели на личный катер отца наместника, и он нас еще возил в другие места и привез прямо на пирс к нашему теплоходу. Тут отец Глеб разговорился с наместником о будущем, а из катера меня вытаскивали отец Владимир Сорокин и отец Иоанн Свиридов; надо было заснять на пленку, как они меня вытаскивали, потому что надо было подняться по лесенке, а потом на пирс, и они меня вытащили, а сами чуть не упали. И мы поплыли обратно, до Питера, потому что путешествие начиналось в Питере и кончалось там же.
На теплоходе мы познакомились с очень интересным человеком, профессором Александром Ивановичем Половинкиным из Волгограда. Он рассказал о том, как он в течение нескольких лет приходил к вере, и теперь уже много лет, как он помогает митрополиту Герману в деле просвещения. А когда была общая дискуссия о духовных ценностях в воспитании студенчества, то ведущими были отец Иоанн Свиридов и отец Глеб Каледа; тему “Проблемы послеуниверситетского образования” вел отец Владимир Сорокин. Так что здесь все было очень интересно, в том числе разговоры за обедами и в частных беседах. Это было как бы первое знакомство науки с духовностью, с Церковью.
С Половинкиным мы потом переписывались и как-то раз еще с ним встречались, когда ездили на пароходе; он устраивал экскурсии по Волгограду.
…Став священником, отец Глеб очень изменился. Он ушел в себя, он как бы во многом отделился от меня, — ушел в свой храм, в свою комнату, и я вроде бы осталась одна. Я даже жаловалась: “Ты столько получил, а я теперь одна, потому что ты занят своими духовными делами, своими духовными детьми…”. Но он говорил: “Подожди, подожди… я вернусь”. Да, потом он, конечно, в каком-то виде вернулся, но главным для него теперь стала Церковь. И это продолжалось и в те годы, когда он работал на светской работе и служил дома, и когда он вышел на открытое служение; здесь уж он целиком принадлежал Церкви.
У него было много духовных детей; те, которые к нам ездили, конечно, остались у него, и появились новые. К нему потянулись ученые, к нему приходили разные естественники, потому что он был естественник, с ним можно было найти общие темы, а у нас с этим трудно было в то время, почему Патриарх и искал людей с образованием, чтобы было людям к кому пойти и с кем поговорить. Одним из таких священников был отец Глеб. К нему и отец Александр Егоров, и потом отец Николай Важнов, когда стал священником, часто посылали людей, потому что им было трудно с ними говорить на научные темы. К нему приходили и профессора, и даже, по-моему, кто-то из членов-корреспондентов.
Отец Глеб очень много времени уделял своим духовным детям, подолгу их исповедовал или просто с ними разговаривал после службы, так что если даже я бывала в храме и оставалась, ждала его, то можно было прождать несколько часов, чтобы вместе с ним поехать домой. А мне уже было трудно ездить одной, я плохо ходила.
В 92-м году летом была организована поездка на север, паломничество по святым местам “Север Руси” на теплоходе “Сейма”. На нем плыли верующие люди, и много было народу из-за границы, в частности, были прихожане Русской Православной Церкви за рубежом. Была семья Родзянки, брата владыки Василия Родзянко.
Паломническая жизнь у нас начиналась утром, с утренних молитв. Среди священников был отец Глеб, потом был отец Иоанн из Канады, из Православной Церкви в Америке, так что мы с ней имеем литургическое общение, а зарубежники первое время уходили со службы, когда мы поминали своего Патриарха и архиерея, по епархии которого плыли. А потом они преспокойненько стали оставаться до конца, подходили к отцу Глебу к кресту, целовали у него руку, пели… Самое замечательное, что они у себя там за границей старались не забыть ничего русского и православного. Они знали и гласы, они умели петь, умели читать. И даже когда как-то у нас был музыкальный вечер, и одна из девушек, фольклорист, пела какие-то русские напевы с приплясыванием и притопыванием, кто-то то ли из дочерей, то ли из внучек Родзянки встала, подошла к ней и стала вместе с ней петь эти русские песни, которые мы сами уже давно забыли, и пела с ней совершенно в тон, и приплясывала, и притопывала. Это нас поразило. Так вот, они уже не уходили никогда и поминали нашего Патриарха и наших архиереев, а в тех городах, в которых мы останавливались, мы ходили в церковь и где можно было, служили. Так что все это было очень интересно.
Мы плыли из Москвы до Питера, были мы и в Кижах, и во многих других местах. У нас часто совершались всенощные, но это было по желанию: вечером были музыкальные вечера, а на богослужения шли те, кто хотел. Хором у нас руководила Марина Борисовна Ефимова14.
Так мы плавали в 1992 году, а уже в 93 году был организован такой же поход уже на теплоходе “Рихард Зорге”, до Ростова. И опять были Родзянки, опять было много интересных людей; было много народу из тех, кто уже участвовал в таком плавании. Тут мы посетили Толгский монастырь.
Я в это время уже очень плохо ходила, а перед этим у меня было на ноге рожистое воспаление, поэтому нога распухла, и часто меня даже возили в коляске так называемого дяди Коли из Канады. А часто я оставалась на пароходе, когда все уезжали в город, если не было машин, потому что самостоятельно ходить мне было очень трудно.
Отец Глеб тут же занимался воскресными школами. В этот раз с нами плавал отец Александр Куликов, и очень было хорошо, очень духовно. К отцу Глебу приходили благочинные и духовенство тех городов, в которых мы бывали. Он распространял литературу для воскресных школ, проводил какие-то семинары и собеседования. К нам на теплоход приходили и не только священники, а вообще народ.
Все это было очень интересно, но, к сожалению, я себя очень плохо чувствовала, у меня часто было очень высокое давление, и я просто лежала. А отец Глеб был очень энергичен, чувствовал себя вроде хорошо. Там, где можно было, он служил в храме, сослужил Литургию, и мы тоже ходили туда. Перед этим исповедовались у отца Глеба, а я — у отца Александра Куликова. И там, где они служили, многие из нас причащались. Правда, я уже редко попадала на службы, потому что, скажем, в Нижнем Новгороде надо было высоко подниматься и далеко идти до храма. В Ростове я тоже не ходила.
Отец Глеб чувствовал себя хорошо, но, вот как-то у него иногда (вот и на теплоходе я это замечала) плохо было с животом, — вдруг ни с того ни с сего. С нами плавала врач, она давала ему всякие лекарства, и вроде как все это проходило.
После этой поездки меня положили в больницу; устраивали мне консультации, подобрали лекарства и наладили давление.
* * *
Вернусь немножко назад, к августу 91 года, когда открылся храм Преподобного Сергия в Крапивенском переулке, так называемого Сергия в Крапивах, и отец Глеб перешел туда служить. Храм был еще мало оборудован, иконостаса толком не было, и все собирали по крошечкам. Отец Глеб нес туда из дома все, что можно, так что все те полотенца, которыми раньше обустраивался наш храм, были отнесены туда; туда было отнесено и копие, то есть, скальпель, которым отец Глеб пользовался в своем домашнем храме; потом оно было перенесено даже в храм Преподобного Сергия в Высоко-Петровском монастыре. В Крапивах служил отец Иоанн (Экономцев) и потом отец Иоанн Вавилов.
Храм Преподобного Сергия в трапезной Высоко-Петровского монастыря открывается только в 92-м году. 17 июля 92 года под Преподобного Сергия в этом храме служится первая всенощная. Иконостаса еще нет, висят наши домашние пикейные одеяла, к ним прикреплены иконы. Но есть подсвечники, хор большой.
У нас дома очень много фотографий, на которых прямо шаг за шагом видно, как отец Глеб совершает службу, с каким вниманием он помазывает елеем подходящих к нему прихожан. Надо сказать, что отец Глеб очень внимательно всегда благословлял, большим крестом, причем сердился, если человек в данный момент был несобран.
Значит, живем так: Всенощная у нас служится в Петровском монастыре, а Литургия все равно совершается в Крапивах, потому что здесь еще не было малого освящения. Малое освящение храма Сергия Преподобного Высоко-Петровского монастыря состоялось в пятницу, перед Димитровской субботой в октябре 92 года. Уже был сделан иконостас, Царские Врата; правда, иконы в иконостас еще не были написаны, но сверху были повешены хорошие иконы. На другой день, в Родительскую субботу, была совершена первая Божественная Литургия. Надо сказать, что на малое освящение храма приезжал Святейший Патриарх Алексий, и здесь отец Глеб получил первые награды: набедренник и наперсный крест; правда, еще раньше он получил камилавку. Есть очень хорошие фотографии: отец Глеб снимает крест, а Патриарх подает ему другой, и помогает ему отец Владимир Диваков.
К Пасхе 93 года, которую мы уже совершали в Высоко-Петровском монастыре, отец Глеб указом получил сан протоиерея, и все его называли протоиереем, поминали протоиереем, а оказывается, в такой сан возводят на архиерейской службе: на малой вечерне, перед малым входом на Литургии священник подходит к Святейшему Патриарху или к архиерею, и тот читает молитву и называет его протоиереем. Надо сказать, что это было сделано с отцом Глебом уже в 94-м году, когда он уже был оперированный.
* * *
Отец Глеб начал ходить в Бутырскую тюрьму. Сперва он там совершил молебен с водосвятием, — в какой-то комнате, на каком-то столе, где сбоку был герб Советского Союза. Потом отец Глеб добился, чтобы в Бутырках ему отдали помещение под храм, который был разорен и разделен на два (или три?) этажа. Верхний этаж отдали отцу Глебу, и он начал там служить; еще без алтарной преграды (там, как и в Крапивах, на стене на фанерных листах висят наши пикейные одеяла с иконами). Первую Литургию в Бутырском храме отец Глеб совершил на Светлой неделе 92 года.
Он начинает свою, может быть, самую главную работу, которую сделал — это работа в тюрьме. Он приглашает туда катехизаторов. Они ходили по камерам, разговаривали с заключенными и готовили их к посещению священника, к исповеди и причастию или к крещению.
Постепенно этот храм преобразился, был сделан алтарь; многие жертвовали туда: кто — подсвечники, кто — какие-то другие предметы. И вот, когда храм уже был сделан, там был заснят небольшой фильм: “Спешите делать добро” (это слова доктора Гааза); это уже было в 94 году. Там в уже оформленном храме отец Глеб дает свое интервью.
Настоятелем этого Бутырского храма отец Глеб указом Святейшего Патриарха назначается 23/8 октября 93 года. И вот, он один, без всякой помощи извне ездит служить в Бутырках, тащит огромный чемодан с облачением. Накануне оставляет сосуды у Сережи (старшего сына — Ред.), потому что тот живет напротив Бутырской тюрьмы. Еще он должен нести в руках складной аналой. Но ходит в тюрьму неуклонно, исповедует там часами.
И заключенные тянутся к нему, просят побольше с ними говорить. В одной группе заключенных был татарчонок, он же другой веры, но все тянулся к нему, и заключенные просили, чтобы он его принял. Он с ним поговорил немножко. Этот паренек, когда отец Глеб приходил, всегда старался к нему подойти, чтобы его поцеловать.
Отец Глеб идет в коридор смертников, в страшный 6-й коридор. Там люди, приговоренные к смерти, сидят за семьюдесятью, наверное, запорами. Отец Глеб не боится туда входить, и об этом сейчас заключенные пишут воспоминания со всех сторон России. Первый раз, когда он пошел к смертникам, надзиратель был за дверью и держал дверь ногой, чтобы она не закрывалась. А потом отец Глеб приходил, говорил, чтобы пришли за ним через час, дверь закрывали, и он сидел с этими смертниками; обнимал их, целовал, старался носить им подарки, яблоки или еще что-то. К Пасхе, кажется, 93 года он очень волновался, чтобы туда отнесли куличи, яйца и так далее.
Отец Глеб крестил несколько человек, с одним из них у меня сейчас переписка. Благодаря письмам отца Глеба, приговоренный к смертной казни Дима был помилован, и ему дали 15 лет. А сейчас он отсидел десять и вернулся домой. С ним у меня тоже была переписка, но я ему посылала только поздравления и держала связь с его родителями. А вообще мне заключенные пишут много (эти письма нужно обработать и напечатать), и во всех вспоминают отца Глеба. Многие его даже не знают лично, а только по его книгам, которые туда пересылались, но через отца Глеба они пришли к Богу.
Итак, отец Глеб занимается тюрьмой, будучи еще духовником в Высоко-Петровском монастыре и заведуя сектором Православного просвещения и катехизации. Он трудится с утра до ночи и всегда таскает тяжеленный портфель, который я поднять не могла. Никаких машин ему не давалось.
В начале 94 года отец Глеб получил командировку от Патриарха в Тулу и в Ярославль для проверки и помощи воскресным школам. В Туле были какие-то нелады, и Святейший послал туда отца Глеба. Его очень хорошо встретил покойный митрополит Серапион, Царство ему Небесное, и он вместе с ним служил, и жил у него в епархиальном доме. Под конец Владыка ему подарил самовар, который, к сожалению, я прохудила, поставив и забыв, что он включен. Отец Глеб возвращается из Тулы, но говорит, что у него там опять были неполадки с животом; Владыка ему дал какое-то лекарство.
И вот, в марте 94 года отец Глеб вдруг почувствовал себя плохо; у него образовалась непроходимость. Маша приехала из больницы, пыталась ему как-то помочь, но сказала, что опасно принимать какие-то сильные меры, потому что это может быть опасно, и мы вызвали “Скорую помощь”.
Его повезли в Боткинскую больницу. Это было 9 марта, после праздника, а плохо почувствовал он себя уже накануне. В хирургическом отделении в приемном покое делают ему рентген, и оказывается, что ему нужно делать операцию. Его поднимают в отделение и делают ему операцию. Оказался рак толстой кишки, которую в таких случаях вырезают и выводят наружу.
После операции отец Глеб лежит там в больнице, ему ставят капельницы и так далее. И где-то к апрелю его из реанимации переводят в палату и начинают около него дежурить; ночью обыкновенно сыновья, а днем многие наши друзья (мы пускали к нему только мужчин). В апреле он выписывается.
На стояние Марии Египетской Маша, теперешняя игумения Иулиания, становится инокиней; это было 14 апреля нового стиля, и она получает имя Мария в честь Марии Египетской. А 24-го, в неделю Ваий, на Вход Господа в Иерусалим Святейший Патриарх служит в Богоявленском соборе, и наш Ваня становится диаконом, отцом Иоанном. На Машин постриг в Надвратном храме Зачатьевского монастыря я поехала с Васей; кстати, открытие этого храма благословлял отец Глеб, и бывал в этом храме и даже там служил. А на хиротонию Вани мы впервые оставили отца Глеба дома одного и были на хиротонии; правда, мы с Кириллом и с Васей не дождались, когда он выйдет потом, чтобы его поздравить, и вернулись домой.
В Страстную Неделю мы потихоньку что-то читали. Папа стал жить дома в большой комнате мальчиков, спал на диванчике Кирилла, я была в маленькой комнате, а Кирюша — в комнате с лоджией. Днем я ухаживала за папой. Он большей частью лежал, и часто приходилось ему менять калоприемники, а вечером его Кирилл как следует мыл. Мне было уже все это довольно трудно, потому что у меня ноги болели, мне трудно было стоять. Ну, ничего, все это мы делали, Саша приезжала. А так в основном Кирилл дежурил по ночам, то есть, когда у папы случались какие-то неприятности, он будил Кирилла, Кирилл его мыл и приводил все в порядок.
А в Великую Пятницу мы повезли отца Глеба в Ховрино. Он вошел в алтарь (такой был слабенький-слабенький), и отец Георгий предложил ему облачиться. И вот отец Георгий выносит Плащаницу, а под Плащаницей идет по ступенькам отец Глеб, а сбоку идет Кирилл и пытается его поддержать. И отец Глеб несет Евангелие.
О том, как мы с ним провели Пасхальную ночь, я уже говорила. А на первый день Пасхи вечером мы поехали в Ховрино, и отец Глеб в своем красном облачении сослужил отцу Георгию. Есть очень хорошая фотография: отец Глеб кадит престол, — слабенький такой, бледный-бледный. Отец Глеб бывает теперь в Ховрине, ему это ближе всего. И на “Живоносный Источник”, на Георгия Победоносца он — в Ховрине, уже участвует в крестном ходе. Непонятно почему, но он там такой здоровый… Может, это снимок предыдущего года? — Не знаю.
В нашей семье происходят большие события. Восьмого мая, в неделю Антипасхи, получив сообщение о том, что на полигоне в Бутово (где это Бутово, что это за Бутово — никто тогда не знает) будет освящен поминальный крест в честь там расстрелянных, Кирилл туда едет; владыка Сергий и владыка Арсений освящают поклонный крест. А Кирилл встречает там Антонину Владимировну Комаровскую; оказывается, она знает, что Комаровский расстрелян здесь. Значит, на этом полигоне расстрелян и отец Владимир, мой отец. А вечером Маше Ильяшенко звонят из Свято-Тихоновского института и говорят, что в списках есть Владимир Амбарцумов; правда, он числится мирянином. Таким образом мы узнаем место расстрела и захоронения моего отца, ныне канонизированного священномученика Владимира.
И вот на Радоницу наш слабенький папа садится в машину, и мы едем в Бутово. Приезжаем к полигону, но там пускают только в субботу и в воскресенье. Кирилл обегал все дома, но нигде не мог найти ключа, и мы проехали по тропинке налево, где теперь к храму идет автомобильная дорога, здесь отъехали немножко в сторону и в кустах служили панихиду за убиенных. Аня была совершенно поражена тем, что папа, такой слабенький, все же смог отслужить панихиду. Все это нами переживалось как очень большое событие.
После панихиды мы поехали в Екатерининскую пустынь15, которая тоже была только что открыта. Это страшный застенок Ежова и Ягоды. Тамошний священник, иеромонах, повел нас в храм с двухэтажным алтарем. Когда здесь была тюрьма, настелили второй этаж, и там проводили допросы заключенных, потом спускали их на первый этаж. Где-то здесь были страшные пытки, а на первом этаже — какие-то ширмы с окошечками, куда ставили людей и в эти окошечки их расстреливали, а потом тела спускали в подвал и там сжигали. И из подвального окошка шла труба крематория, — совершенно страшное впечатление. Сейчас все это ликвидировано и храм открыт.
Итак, мы узнали, где и как расстрелян наш отец Владимир, и теперь вся наша жизнь начинает быть связана с Бутовым. Тут мы узнаем, что в Бутове расстрелян владыка Серафим Чичагов; матушка Серафима, в это время игуменья Новодевичьего монастыря, тоже приезжала туда. И вот мы, дети там расстрелянных, с матушкой Серафимой во главе, пишем Святейшему Патриарху прошение о том, чтобы разрешили в Бутове построить храм.
Эту землю передают Церкви и Патриарх благословляет строительство храма. Собирается община храма, куда входят в основном дети там расстрелянных: монахиня Серафима, отец Андрей Лоргус, Алеша Бобринский и Кирилл. И вот тут становится вопрос, кому быть главой этой общины. Отец Глеб понимает, что, если им станет Кирилл, то с геологией надо будет прощаться. Кирилл, может быть, немножко колеблется, но я его поддерживаю. “Ну, как же! Там же похоронен наш мученик!”. Кирилл соглашается, и начинается деятельность по строительству храма. Отец Глеб несколько раз ездил в Бутово, в основном в субботу; его туда возит Кируша на машине. Он еще слаб и долго там не задерживается. Несколько раз мы с ним ездили в Бутово вместе, где-то в начале июня, в субботу, а еще — в середине июня, уже с отцом Иоанном. И около креста служится панихида, на которой мы впервые встретились с людьми, приехавшими сюда, потому что их родственники здесь расстреляны.
Как-то раз было очень трогательно: мы служили панихиду, подошли две женщины, одна пожилая, другая — нет, и стали говорить, что у пожилой в свое время, только она вышла замуж, был арестован муж Владимир, и здесь расстрелян. А другая приехала откуда-то с юга, у нее был здесь расстрелян Ксенофонт. И мы записали в синодике: Владимир и Ксенофонт, но тогда мы были еще неопытные и не знали, что надо записать фамилию или что-то такое, чтобы найти родню и сведения.
После Преподобного Сергия Вася нас взял к себе в деревню. Там нам дали отдельную комнату. Мама Васиной жены, Людмила Анатольевна, хорошо ухаживала за папой, а он там гулял, уже немножко ходил в лес, окреп немного. Мы с ним поехали в Зарайск перед воскресеньем, 24 июля. Там в Кремле шла служба. Отец Глеб вошел, постоял… А служил молодой священник, видимо, впервые: вышел на литию и не знал, что читать; отец Глеб ему подсказал. А потом пришел отец настоятель, попросил его выйти, они вышли, отец Глеб показал ему свои документы, и настоятель пригласил его облачиться и служить. И на следующий день отец Глеб служил там Литургию, но, к сожалению, меня не было, я себя плохо чувствовала и боялась, что погода плохая и что машина наша не пройдет, а ходить я уже толком не могла.
А на следующее воскресенье мы с Васей поехали в Старо-Голутвинский монастырь. Там служил игумен Кирилл, тот самый, который встречал нас в Екатерининской пустыни. Его сделали настоятелем Старо-Голутвинского монастыря, и он служил в громадном храме, где не было окон. Когда мы с отцом Глебом туда вошли, он стал сзади, и отец Кирилл увидал, что стоит кто-то из духовных, и подошли к нему прислужники и попросили его пройти в алтарь. Он вошел в алтарь — и отец Кирилл его не узнал, потому что он только недавно его видел и просто не мог предположить, что отец Глеб окажется у него в Коломне. Он очень обрадовался, отец Глеб снова облачился, а на следующий день отец Глеб сослужил Литургию, говорил проповедь.
Нас приглашали приезжать еще, но мы больше не смогли; где-то в начале августа мы вернулись в Москву, и отец Глеб начал опять служить в Петровском монастыре, служил на Преображение. Но при этом отец Глеб готовился ко второй операции; он готовил материалы по просвещению для Патриархии16. Он очень волнуется, но готовит материалы по своему отделу, не забывая и тюрьму, и хочет в начале сентября идти на вторую операцию. Чувствует себя он вроде прилично, сделали ему всякие анализы, — по видимости все нормально. После Успения отец Глеб опять ложится в больницу. Последняя его служба в Петровском монастыре была на Перенесение Нерукотворного Образа 29 августа, а первого сентября он лег в больницу…
Теперь, когда Кируша стал священником и когда построен храм в Бутово (но об этом другой разговор), для меня родным стал этот храм. Туда мы тоже отнесли папино облачение, там много вещей, которые купили Анечка с Сережей: и хоругви, и облачения (они сшили несколько облачений; на последнюю Пасху — стихари; в этих стихарях их ребята стояли на их похоронах).
Так что для меня Бутово родное. В монастыре (Зачатьевском — Ред.) хорошо, но монастырь есть монастырь, а тут и иконы наши висят, и что-то в алтаре есть из нашего дома, и крест наш висит в храме. И Кируша, так похожий на папу, на отца Глеба. И облачения отца Глеба… Так что там я вспоминаю всех самых своих близких: и священномученика Владимира, и отца Глеба, и моих дорогих детей — Сережу с Аней, так трагически погибших, по воле Божией ушедших на небо. Я думаю, что там их встретили и дедушка и папа.
Уходя в больницу, отец Глеб снял свой нательный крест (он, по-моему, был потом у Сережи и, наверное, с ним вместе сгорел) и надел крест, который привезли из Питера, купленный в храме Иоанна Кронштадтского. А умер он в день Ангела Иоанна Кронштадтского.
ЕДИНАЯ ЖИЗНЬ
Послесловие от редакции
В трех номерах “Альфы и Омеги” мы поместили воспоминания отца Глеба Каледы (№№ 31–32) и его жены Лидии Владимировны (№№ 32–33). Надеемся, читатель по достоинству оценил эти свидетельства бурных лет нашей истории, ставших по воле Божией годами славы Русской Православной Церкви, высокий христианский дух их авторов, их замечательные человеческие качества. Хотелось бы в заключение обратиться именно к тому факту, что перед нами — воспоминания супругов, в значительной степени касающиеся совместно прожитой жизни, и эта жизнь предстает перед читателем в своей удивительной гармонии. Перед нами раскрывается поистине единая душа, заповеданная Богом в начале времен для каждой супружеской пары.
О том, как исполняется в падшем мире это Божественное установление, много говорить не приходится. В 60-х годах у нас шел двухсерийный французский фильм “Супружеская жизнь”; каждая из серий представляла рассказ одного из разведшихся супругов. В версии жены муж был тупым и бездарным эгоистом; в версии мужа жена была пустой и тщеславной кокеткой. По замыслу режиссера серии предлагалось показывать в произвольном порядке, и симпатии зрителей всегда доставались той стороне, чья версия показывалась во вторую очередь. При этом ни зрители, ни сам режиссер, казалось, и не догадывались, что на деле фильм рассказывает о двух эгоцентриках, которые за много лет так и не догадались, что для достижения счастья в браке следует хоть в какой-то степени быть внимательным к другому, а не отстаивать только свои интересы, в том числе свое право заботиться о супруге именно и только так, как это представляется правильным “заботящейся” стороне.
Это — типичный брак, но не нормальный17. А воспоминания отца Глеба и Лидии Владимировны рисуют именно норму. Их можно читать в любой последовательности (полезно — параллельными фрагментами, относящимися к одному и тому же периоду), — все равно читатель найдет лишь единый взгляд на события и на проблемы семейной жизни; другое дело, что это взгляд то главы семьи, то хозяйки дома, но между ними царит единение во всех основных вопросах их жизни. Замечательно, что Лидия Владимировна, дочь священномученика, с самых юных лет вплотную столкнувшаяся с преследователями христианства, дает согласие на тайное рукоположение своего мужа, прекрасно отдавая себе отчет в том, чем это грозит и им самим, и их шестерым детям, — но разве менее замечательно то, что молодой Глеб Каледа без колебаний входит в семью мученика? В очень трудных бытовых условиях Г. А. Каледа ухитряется находить какие-то выходы из положения (в доме с ледяным полом устраивает детей “жить” на столе), — а его жена смиряется с тем, что невозможно преодолеть, и поддерживает жизнь семьи на уровне чистоты и здоровья в таких условиях, которые заставили бы опустить руки тысячи и тысячи женщин.
Воспоминания отца Глеба и Лидии Владимировны несомненно имеют большую познавательную ценность, но это еще не определяет исчерпывающим образом их значимости. Да, это свидетельство эпохи, свидетельство о людях гонимой Церкви — но и свидетельство о бесконечной красоте и глубине христианского брака. Остается пожелать, чтобы при очередном издании книги отца Глеба “Домашняя церковь” (вышло три издания, не считая французского, а спрос сохраняется) в качестве приложения были опубликованы и воспоминания его жены, — именно так, потому что назвать Лидию Владимировну вдовой язык не поворачивается: ее брак, заключенный в 1951 г., был заключен и на вечность.
* * *
Мы предлагаем читателю некоторые фотографии из семейного архива, за предоставление которых благодарим детей отца Глеба и Лидии Владимировны.
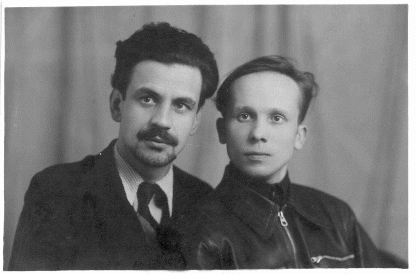
Евгений Амбарцумов (незадолго до рукоположения) и Глеб Каледа (незадолго до венчания). Ленинград, март 1953 г. На обороте надпись: друзья перед большими событиями (см. «Альфа и Омега» №2 (32). С.239).

Священник Кирилл Каледа в первый день своего настоятельства в храме Новомучеников и исповедников Российских в Бутове 1998 г.
1Женя — брат Л. В.; о семье Калед см. Протоиерей Глеб Каледа. Записки рядового // Альфа и Омега. 2002. 1(31); Каледа Л. Воспоминания об отце — священнике Владимире Амбарцумове // Альфа и Омега. 2000. № 2(24). — Ред.
2Резвой Д. П. — научный руководитель о. Глеба по геологическим партиям.
3Гоманьков Владимир Иванович — однополчанин отца Евгения Амбарцумова, в дальнейшем ближайший друг о. Глеба, доктор физико-математических наук. Его консультациями о. Глеб пользовался при написании работы “Библия и наука о сотворении мира” (см. Альфа и Омега. 1996. № 2/3 (9/10); 1997. № 2(13)). Упоминаемая ниже Наташа Гоманькова — супруга В. И. Гоманькова, ближайшая подруга юности Л. В. Каледы.
4Протоиерей Глеб Каледа. Записки рядового // Альфа и Омега. 2002. № 1(31). С. 277.
5Ефимовы — православная семья, с которой Каледы поддерживают отношения в нескольких поколениях; М. Б. Ефимова была регентом в храме преподобного Сергия Высоко-Петровского монастыря, когда там служил отец Глеб.
6Елена Владимировна Вержбловская, в иночестве Досифея (*1904–†2000); см. ее воспоминания в книге: Василевская В. А. Катакомбы XX века. М., 2001. С. 279–306.
7Мама Валя — Валентина Георгиевна (в девичестве Алексеева), супруга священномученика Владимира Амбарцумова и мать его детей; скончалась в 1923 г. После смерти В. Г. Амбарцумовой ее близкая подруга М. А. Жукова взяла на себя воспитание детей о. Владимира, которые называли ее мамой. — Ред.
8Сын Лидии Владимировны Сергей со своей женой Аней погибли в автомобильной катастрофе 22 июля 2000 года.
9Тутуновы — семья художника С. А. Тутунова; с семьей Калед их связывает многолетняя дружба.
10В публикациях 90-х годов прошлого века утвердилось понимание катакомб как явления, оппозиционного священноначалию Русской Православной Церкви, нелегального по юридическому положению и часто антисоветского по политической направленности. Такое “синтетическое” понимание катакомб не отвечает самосознанию самих членов церковного подполья эпохи гонений. Сам отец Глеб иногда именовал годы своего тайного служения пребыванием в катакомбах, но имел при этом в виду исключительно нелегальное положение своего храма, естественно, не имевшего официальной регистрации. О катакомбах более раннего периода см. Протоиерей Глеб Каледа. Очерки жизни православного народа в годы гонений (воспоминания и размышления) // Альфа и Омега. 1995. № 3(6). Ñ. 139–140. — Ред.
11В то время владыка Сергий был архимандритом — инспектором Московской Духовной академии и семинарии.
12Имеется в виду “Библия и наука о сотворении мира”, см. Альфа и Омега. № 4(11) за 1996 г. и № 2(13) за 1997 г. — Ред.
13Это были оттиски из “Альфы и Омеги” № 2 за 1994 г. Вообще журнальных оттисков к этому времени уже давно не делали, но так как номер еще не был готов, их сделали в типографии для отца Глеба по специальной нашей просьбе. — Ред.
14О семье Ефимовых см. в первой части воспоминаний Л. В. Каледы. М. Б. Ефимова была регентом хора в Высоко-Петровском монастыре. — Ред.
15О Свято-Екатерининской пустыни см. Гусакова С. Две обители // Альфа и Омега. 1998. № 4(18). С. 339–340. — Ред.
16Эта работа отца Глеба опубликована в книге “Отцы, матери, дети. Православное воспитание и современный мир” (М., 2001) под заглавием “Задачи, принципы и формы православного образования в современных условиях” с небольшими сокращениями, касающимися практических проблем 1994 г. — Ред.
17В этом случае, как и во множестве других, проявляется уникальное свойство человека: расхождение статистики и нормы. Даже если подавляющее большинство людей предается порокам, норма человеческого поведения — добродетель; даже когда вся византийская Церковь впала в ересь иконоборчества, “нормой” Православия оставалась позиция преподобного Феодора Студита и немногих других, сохранивших верность иконопочитанию.






