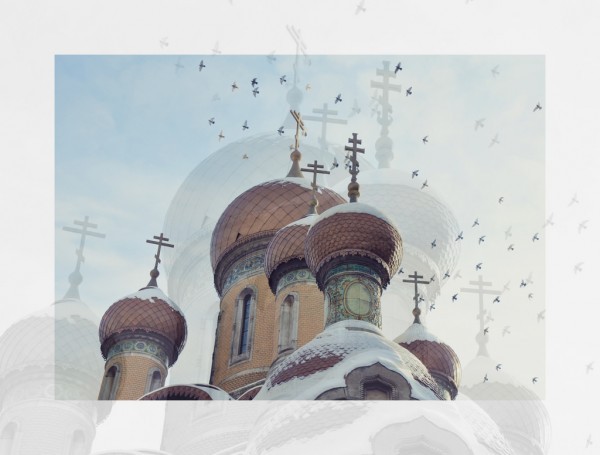Рожденный ползать – летать не… хочет?
С чем у нас ассоциируется слово «Вознесение»? Воз-несение… Приставка «воз-» говорит не просто о направлении вверх, но указывает на отрыв от почвы, от земли, от того, что тянет вниз, притягивает, прижимает, пригибает, распластывает и превращает в пресмыкающееся…
Вознестись – значит воспарить. Сначала – взлететь! Вырваться, взмыть вверх… и замереть в свободном орлином парении над землей, расправив крылья и созерцая огромное пространство, замечая при этом любую мелочь, достойную внимания.
Усилие… А зачем? И что это вообще за сомнительные рассуждения о том, что «рожденный ползать летать не может»? Нет ли в этих словах дьявольской гордыни? При чем тут «не может»? Зачем воспринимать это как ущербность? Разве дело в том, что не может? Не хочет – вот что главное. «Рожденный ползать летать… не хочет», – грустно пошутил как-то писатель Сергей Довлатов.
Сколько птица ни летает – всё равно на землю садится
«Рожденный ползать» – символ стабильности. Поскольку тот, кто ходит, а тем более бегает, рискует упасть. Летающий рискует еще больше. Ползающий упасть не может. Ну разве что с дерева, да и то без последствий. «Я, конечно, / Пресмыкаюсь, / Но нисколько / В том / Не каюсь! – гордо заявляет змея в стихотворении Б. Заходера. – Ибо тот, / Кто пресмыкается, / Никогда / Не спотыкается!»
Их презрительно обзывают: «гады ползучие» и клеймят их чарующую гибкость неприятным словом «пресмыкательство». А птицам – всеобщее восхищение и почет. Откуда же это?
Известно, откуда. Из литературы: светской, мирской, а стало быть, падшей. Из больного, прельщенного воображения писателей, не любивших родную почву, презиравших ее и в безумии своем норовивших порвать с ней. Гордецы… Вообразили о себе невесть что.
Превратили птицу в символ небесной жизни, приравняли ее к Ангелам. Поторопились, не понимая жизни, упуская из внимания важнейшие детали, думая, что вот, рыбы – существа водной стихии, а птицы – воздушной. Но того не заметили, что рыбы-то в своей воде живут себе и живут, и на сушу не просятся. А птицы? Сколько бы они ни летали, а всё равно ведь на землю садятся. И не надо тут про деревья! Хоть дерево, хоть куст или трава – это всё произрастания земли, ее поверхность.
Вне зависимости, где у птицы гнездо: в камышах, на дереве или на голой скале – это земля. Рыбы – те да, действительно, существа стихии водной. А птицы – какие же они «небесные»? Они в небе не живут, как рыбы в воде. Живут они на земле. А в небе они так… бывают. Так что они такие же земные, просто с претензией. Возомнили о своей неземной сущности и тешат самолюбие и превозносятся, глядя на всех свысока. А чего воображать-то? Всё равно сюда же вернутся. Только и разницы, что какое-то время живут так, словно земное притяжение над ними не властно. Кого обманывают?..
Отчего люди не летают как птицы?
Вот и писатели, эти фантазеры, эти наймиты мировой закулисы, воспевают птиц, внушают нам эту опасную мечтательность, причем как-то нелогично. Вспомним известный монолог Катерины из «Грозы» Островского: «Отчего люди не летают?» Если вчитаться, ясно становится, что девушка плохо кончит. Это же скрытый бунт против замысла Творца! Даже не скрытый, а лишь слегка прикрытый… ропот на Него. Ей, видите ли, тоже «летать охота».
В церковь она любила ходить… Ага, как же! Любоваться солнечным лучом она ходила, в котором кадильный дым клубился, а в дыму том Ангелы мерещились. И тут же у нее всё в одном ряду: солнышко, сад, истерики от гормональной бури, принимаемой ею за религиозный экстаз… Автор пишет ее образ как положительный, словно призывая нас воодушевиться ее желанием «разбежаться, поднять руки и полететь».
Образ хоть и трагичный, но привлекательный, внушающий со-чувствие, со-переживание; побуждающий проникнуться этим предательским отношением к земле, этой порочной тягой к чуждому нам по природе небу.
Вот и разночинец наш Добролюбов подхватил и развил идею, назвав главную героиню пьесы «лучом света в темном царстве». Как же надо не любить родную землю, свой народ, свое государство, свою историю, наконец, чтобы обзывать это всё «темным царством»! При этом нападая на стабильное, уничижая прочное стояние (ну, лежание, да какая разница?!) на земле и восхваляя любое разрушительное трепыхание, лишь бы оно было отрывом от земли, пусть даже самоубийственным…
Писательская интуиция вынудила автора показать, к чему приводит подобное безумие: нет Катерине места среди живых, здравомыслящих людей. «Скучно» ей с нами – прочно, всем существом держащимися за почву. А всё мечты! Желать летать – противоестественно для земного существа, самоубийственно. И первый шаг к этой противоестественности – в прямохождении.
Эволюция: патология развития
Говорят: эволюция… Сначала, дескать, рыбки на сушу выползли, и пошло, пошло. В какой-то момент этот процесс точно не туда занесло. Вот это стремление двигаться по земле, едва ее касаясь: что за патология развития? Да-да, какая-то врожденная патология у людей: едва научился ползать, так ему мало – начинает на четвереньки становиться; не успел толком научиться ходить на четвереньках, так он уж норовит на задние лапы встать, словно головой тянется куда-то ввысь. Малыш даже не встает, а именно восстает из прежнего положения. И чего ему не ползалось?.. К чему это самовозвышение? Не иначе как, чтобы на всех свысока можно было смотреть. Гордыня!
Надо быть как все. Раз все ходят прямо, надо преуспевать в этом признаке высшей ступени эволюции. Но внутренне-то надо быть благоразумным: к чему искать, находить, развивать то, что подвергает опасности оказаться непонятым? К чему ориентироваться на идеалы, к чему эти мучительные поиски «должного», когда можно просто ориентироваться на инстинкты? Для чего же еще рассудок дан?
Что за смешные попытки восстать душой? Этот отрыв от почвы не пройдет безнаказанно. Он обрекает на нестабильность, на постоянные колебания, постоянный поиск равновесия, на непрекращающийся риск, отклонившись, упасть и разбиться.
К чему эти попытки выпрямиться внутренне? Никто же не видит и не оценит. А опасность упасть и покалечиться душой очень велика. Ради чего? Ради доброго имени, что ли? Среди кого?! Ведь окружающие вас, внутренне прижатые к земле, превозносящие здравый смысл и гордящиеся своей стабильностью люди вряд ли одобрят эти потуги превознестись над ними.
Что?! «Ради совести»? Ради чьей? Своей?.. Так это же бессовестнейший эгоизм! Провозглашать можно любые, хоть самые высокие ценности. Тем более, когда это выгодно и способствует продвижению по карьерной лестнице, популярности, материальному, наконец, обогащению. Но относиться к этому всерьез и зорко следить за собой, чтобы соответствовать провозглашаемому? Во-первых, это предательский отрыв от почвы, а во-вторых, как не стыдно так себя вести, ставя в неудобное положение окружающих? Теперь что, всем так надо поступать? Это бестактно – принуждать людей к тому, что должно являться их сугубо личным и свободным выбором!
Священный смысл в борьбе за земные блага
Трудно возразить что-либо на эту лукавую риторику. Особенно, если весь пафос апологии пресмыкательства направлен, как будто, не против небесных сил и Царства Божия, а против мнимой духовности, душевности, страстности и прелести бесовской.
Создается иллюзия аскетической проповеди трезвения. Не зря же сатану мы по-русски называем «лукавым»: не просто «злым», а именно «лукавым», подразумевая, что злобность его хитра, лицемерна, изворотлива; что он не только «человекоубийца от начала» (Ин. 8:44), но «лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).
«Пресмыкательство» в обиходе принято понимать достаточно узко, как угодничество, заискивание перед сильными, высокопоставленными. Однако в святоотеческой письменности это больше связывается с прилепленностью к земле всем существом. Пресмыкается тот, кто земное, преходящее неизменно ставит превыше всего; тот, для кого небесные, нетленные ценности если и существуют, то лишь в качестве обслуживания преходящих интересов.
Определяющим является погруженность, впаянность, а лучше сказать, вжитость в мирское, во временное, пусть даже героическое и достойное уважения, но от мира сего по местонахождению сокровища и сердца (Мф. 6:21). Причем наихудшим вариантом этого пресмыкательства является его сакрализация, когда борьбе за земные блага (например, за социальную справедливость в стране, ее политическую стабильность и независимость и прочие геополитические интересы) придается священный смысл.
Казалось бы, «пресмыкательство» и «героизм» – две вещи несовместные? Очень даже совместные. Если первое указывает на пропитанность духом мира сего, руководство им в принятии решений, то второе, в русле той самой сакрализации пресмыкательства, отождествляется со святостью, вводится в область святости и подменяет ее собой.
Вводить нечто несвятое в семантическое поле «святость» и объявлять «священным» что-либо от мира сего чревато тем, что это «нечто» выводится из сферы, подлежащей трезвому, критическому анализу, и помещается как бы в оклад. Под ним – всё порочное, а снаружи в нимбе святости – героическое. Тем самым сакрализуется профанное и навязывается почитание всего явления в целом.
Непонятно, «что тут такого»? В самом деле, почему это нельзя прославлять воинскую доблесть, культивировать уважение к собственной истории, чувство национального величия? Кому опять помешало патриотическое воспитание?
Дело в том, что не надо смешивать понятия. Во-первых, гордость – греховное чувство, которое не стоит путать с чувством человеческого достоинства. Во-вторых, одно дело – культивировать уважение к высоким ценностям, совсем другое – абсолютизировать их.
Когда достойное уважения, но всё же не святое объявляется святым (а именно так происходит на многих мероприятиях, связанных с исторической памятью), происходит профанация святости, и по сути земное немедленно становится обязательным для почитания и неприкосновенным.
Без Бога от святости остается одно название.
Святость Божия – святость любви
Свято лишь то, что в Боге и от Бога непосредственно исходит, потому что святость – это исключительно Божие свойство, ибо один только Бог – свят по Своей природе. Все и всё святое святится Его святостью, в понятии которой «концентрируются основные руководящие принципы и цели Божественного Откровения» (здесь и далее цитаты из статьи свящ. П. Флоренского «Понятие Церкви в Священном Писании»).
Когда создавалась Септуагинта (первый перевод Ветхого Завета с древнееврейского языка на древнегреческий, сделанный в III–II вв. до Р. Х., согласно преданию, семьюдесятью двумя еврейскими учеными для Александрийской диаспоры), древнееврейское слово кадош было переведено словом ἅγιος <агиос>.
Это было не единственное слово в греческом языке, которое обозначало святость, но именно оно, как «наименее связанное с языческими представлениями, послужило „наичистейшим сосудом“… для нового вина Откровения», потому что сущность библейского понятия святости – в трансцендентности Бога Своему творению.
Святым, кадош, Бог в Ветхом Завете называется, «как вполне особый в Себе Замкнутый, каковой стоит в противоположности миру, к которому Он не принадлежит».
«…Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19:2), – говорит Бог Израилю. Слова эти несут в себе антиномию, которая во всём величии раскроется только в Новом Завете: Бог трансцендентен миру – человек призван к обожению. Однако при том, что трансцендентность Бога Своему творению – основополагающая мысль Ветхого Завета, отрицающего пантеистичное миропредставление, уже тогда Бог открывается не только как иноприродный, но и как призывающий нас к сопричастности Его иноприродности.
Святость Божия – святость любви. Бог любит Свое творение и освящает его, и мы ожидаем «нового неба» и «новой земли» (Откр. 21:1), когда всё творение, которое откликнется на Его любовь, будет объято святостью Божией. Ныне же идет мучительный процесс, кризис тварного мира, потому что выбор за каждым человеком: принять заповедь святости или уклониться от нее; воспринять ее как ориентир или проигнорировать, как «отвлеченную от реальности». Корень мучения – в свободе человека: он сам должен выбрать между грядущим Царством и «тьмой кромешной». Вновь и вновь в течение всей жизни человек должен избирать добро, а из добра – то, что свято.
Суть всей христианской этики – в системе нравственных понятий, объединенных идеей святости. Заповедь святости – это заповедь-максима. Мы не можем стать святыми в той же степени, как Бог, но можем и призваны стремиться к святости. Нарушение этой заповеди не в том, что мы не достигаем Его степени святости (это и не требуется ввиду невозможности), но в том, что мы и не пытаемся научиться отделять в своей жизни «святое от несвятого» (Иез. 22:26).
В контексте понимания святости как сопричастности Богу следует понимать и святость Его угодников, потому что «святой – это человек, который открылся Богу и через которого Бог как бы действует и сияет. И я думаю, – говорит митр. Антоний Сурожский, – что многие святые никаких чудес не творили, но сами были чудом. <…> Я думаю, в том только дело в святости, чтобы человек был свидетелем о вечных ценностях, о вечной жизни, о Боге».
Канонизация святых – это не прославление чудес, и не столько прославление их самих, сколько прославление добродетелей, которыми они прославили Бога, давшего такую силу верным Своим; это прославление свидетельства реальности Воплощения Бога и обожения человека.
Грядущий антихрист – герой
Тем не менее, может показаться непонятным, почему это нельзя отождествлять героизм и святость. Разве это не синонимы? Неужели героическая личность не может быть святой? Может. Не сочетая. Это мы видим на примере св. блгв. кн. Александра Невского, подвиг которого как раз состоял в преодолении своего героизма, ради любви к ближним; подвиг, стоивший ему доброго имени в истории (во многих публикациях его образ поныне очерняется исследователями). А ведь слава – высшая ценность для героя и смысл самого героизма.
Разве героизм – это всё то же пресмыкательство? Разве это не возвышение над земными, преходящими ценностями, разве не прославление непреходящих ценностей в самоотверженной жертве? В ракурсе всё того же христианского мировоззрения – да, всё то же.
Мы представляем себе героизм как сочетание отваги, самопожертвования, особых заслуг перед Отечеством и человечеством, преодоление трудностей и опасностей, что в итоге награждается и приносит немеркнущую славу; сам же герой, на примере которого воспитываются поколения – это «мистическая или реальная личность, символизирующая своей прошлой или настоящей социальной ролью или поступками особо важные аспекты ценностей той или иной культуры» (Глоссарий.ру).
Какова этимология этого слова? «Герой (ἥρως), в греческой мифологии сын или потомок божества и смертного человека». Согласно мифологии, Олимпийцы, победившие хтонических чудовищ (порождения матери-земли – Геи), создают поколения героев, чтобы надежнее укрепить свою власть в мире.
Они не бессмертны по природе (в отличие от богов), но по смерти могут сподобиться блаженства, как, например, Геракл, который в качестве вознаграждения за перенесенные испытания обретает бессмертие, поселяется на Олимпе и получает в жены богиню Гебу.
В гомеровском эпосе важной чертой героизма является гордость и жажда славы как способа обессмертить себя. Доброе имя, которое сохранится в памяти потомков – важнейший мотив самопожертвования для героя. Позор, опороченное имя – самое страшное зло, обессмысливающее самопожертвование. Непонятый (среди храбрецов) герой – нонсенс.
Разумеется, было бы несправедливо сводить сущность героизма к тщеславию, ибо герои, жертвуя самой жизнью ради добродетели или доблести, провозглашали почитаемый ими идеал. Но всё же следует помнить, что жажда первенства и прославления – в основе героической нравственности.
Откуда эта жажда славы, стремление быть признанным в кругу храбрецов? – От страстной любви к земной жизни – такой короткой и зыбкой, особенно для воина. Парадоксально, именно ею они готовы пожертвовать ради высших нравственных ценностей… чтобы продлить жизнь – в памяти поколений!
Вот этот агонистический дух (ἀγών <агон> – состязание) является существенным свойством героического сознания, целиком ориентированного на земную жизнь и земную же славу.
В основе героизма – любовь к жизни земной и, я бы сказал, прагматичный подход к решению коллизии конечности жизни и стремления ее продлить: вместо малодушного растягивания существования, прожить годы пусть коротко, но достойно – так, чтобы жизнь продолжилась на земле в памяти потомков.
Героизм – это компенсация физической смертности мнемоническим бессмертием (μνημονεύω <мнимонево> – помнить, вспоминать; от μνήμη <мними> – память как способность души, воспоминание).
В ХХ веке героическое сознание интенсивно насаждалось и эксплуатировалось. Тоталитарные режимы, культы личностей Ленина, Сталина, Гитлера, Муссолини и др. – это всё возрождение героического сознания. Герой – тот, кто является и выводит из тупика; он «тот, кто знает, как надо». С его именем, речами, мифологизированным образом поклонники связывают свои надежды на будущее, на преодоление кризиса (а именно в кризисные периоды возрастает напряженное ожидание героя).
Осмелюсь утверждать: грядущий антихрист – герой. Можно спорить о версии Олега Генисаретского по вопросу этимологии слова «герой», но суть явления уловлена им верно: «Герой – это тот, который сам мыслит, кто самодействует, самоощущает, сам творит свое самобытие и т.д. Тот самый „сам”, которого мы примысливаем к слову „я”, говоря „я сам”, „ты сам”, „он сам”».
Современное секулярное сознание строится именно на этой «самости», а личности, ее воплощающие – «герои нашего времени». Антихрист как раз и будет воплощением чаяний секулярного сознания. Он сможет «решить» многие проблемы современности, одной из которых является разобщенность, «война всех против всех», причину которой видят в приверженности идеалам (не будет идеалов, не будет и конфликтов), в провозглашении каких бы то ни было убеждений – истинами в последней инстанции (что с точки зрения либерального стандарта ценностей недопустимо, поскольку все религии, мировоззрения и ориентации: политические, гендерные, сексуальные и пр. – равноценны; кто против этой концепции, тот – человеконенавистник и ему не место среди людей).
Антихрист, будучи олицетворенной «самостью», придет «во имя свое» (Ин. 5:43) как инфернальное воплощение тысячелетиями культивируемого героического идеала, антагонистичного христианскому идеалу святости (и по недоразумению нередко его подменяющего).
Только имея ясное представление о языческой сущности рассмотренного выше концепта, можно адекватно определиться в отношении к нему и не путать героизм со святостью, а героику с агиографией, что наблюдается порой из-за несформированности у большинства людей понятий героизма и святости.
Пресмыкательство низменное и возвышенное
Катерина, этот «луч света в темном царстве» – кто она в свете сказанного? Конечно же, героиня. Именно в аксиологическом смысле, ибо борется с низменностью мира сего и погибает в этой борьбе, не давая себя сломать, растворить во тьме бездушных посредственностей. Она бунтует против пресмыкательства и погибает, не изменив самой себе. Какой прекрасный образ!
Что ж, «ты прекрасна, спору нет», хотя… можно и поспорить. Катерину, конечно, жаль. «Тьма», которой она противостоит, и по правилам которой она жить не хочет, отвратительна. Но ведь она погибает не физически только. Самоубийство – смертный грех, погибель не только тела, но самое страшное, что и души. Этому непосредственно предшествует другой смертный грех – отчаяние, в отношении которого самоубийство – закономерное следствие. Прекрасное с грехом несовместимо, потому что прекрасное – область высшей, божественной красоты.
Катерина, по-человечески, трагично-красива. Ее душа рвется из плена обыденности, протестует против пресмыкательства, отсюда ее желание уподобиться птице. Относительно «гадов ползучих», птицы, и в самом деле, – как бы представители иного мира. Но они – не Ангелы. Они существа всё того же мира, что и пресмыкающиеся.
Человек же – плоть от плоти мира сего, но не только и не столько. В первую очередь, он – существо иного мира. В первой главе книги Бытия говорится о сотворении Богом неба и земли: мира духовного и мира материального, затем – о сотворении «души живой», и особо – о человеке: он – творение Божие, венчающее собой и соединяющее в себе оба мира, а потому, если человек не стремится в течение земной жизни мыслить себя на пути в небесное отечество и жить уже здесь и сейчас по его законам, но свое небесное призвание ограничивает временным отрывом от земли, то по своему состоянию он совсем не принципиально отличается от пресмыкающихся.
Пресмыкательство – это, как уже было сказано выше, образ всецелой преданности преходящим ценностям. Вроде как существо и не подземное, и над землей большая часть тела, но всей нижней оно к земле жмется. В биологическом плане человек, разумеется, не пресмыкающееся, он лишь подошвами касается земли в своем естественном состоянии. Только в аспекте его небесной природы всё это несущественно, если интересами своими он стелется всё по той же земле, и если бы он даже способен был летать, как птицы, ничего бы это не изменило.
Христианство или кабанихианство?
Неужели нет разницы между Катериной и ее окружением, Кабанихой, в частности? Неужели для Бога они одинаковы, или, страшно подумать, Кабаниха – праведница, а Катерина – отверженная грешница, которой уготованы «ад-и-погибель, ад-и-погибель, ад-и-погибель…» А что? Кабаниха, в отличие от Катерины, не прелюбодействовала, не отчаивалась и даже не покушалась на самоубийство. Чем не праведница?
Кому что уготовано, не мне судить. Но одно очевидно: мир, олицетворяемый Кабанихой, дорожит устоями своими, среди которых квазиправославная религиозная система играет роль главной скрепы. В этом мире нет места Евангелию. Ну разве что на уровне «целования крышки», как метко выразился один красноармеец.
Кто-то честно соблюдает правила, как сама Кабаниха, кто-то приспособился «делать, что хочешь, только бы шито да крыто было», как Варвара, осознанно создавшая благоприятные обстоятельства для греха Катерины, но все живут «по лжи». «У нас весь дом на том держится», – рассудительно констатирует всё та же Варвара.
Во всём ложь и лицемерие. А где ложь, там нет свободы. Там подлинное рабство греху. Дьявол, как мы уже говорили, «лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). Но одно дело, когда кто-то лжет, осознает и мучается этим, и совсем другое, когда принимает ложь как норму жизни, а то и вовсе не видит ее в упор, изолгавшись в своем лицемерии. Грех от беса, но бесовское состояние души наступает постепенно, когда она с грехом примиряется. И неважно, непринципиально, с каким именно.
Об этом мире, как совокупности страстей, как среды, исповедующей под прикрытием какой угодно традиционной религии культ князя мира сего, и говорит апостол Иоанн Богослов: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2:15–16).
Нет любви… Жестокость Кабанихи – именно отсюда: от той самой порочной любви к миру, к его «гордости житейской», ради которой можно и похоть плоти, и похоть очей обуздать. Нет в ее мире места ни любви Отчей, ни милосердию Его. Страх, но не страх Божий, который «начало мудрости» (Пс. 110:10), а его суррогат – вот стержень этого мира, предохраняющий его от распада. В интерпретации таких людей любая религия, даже христианство, станет инструментом для насаждения страха, пригибающего, прижимающего к земле.
Порядки, призванные служить опорой для жизни по Богу, отстаиваются Кабанихой бездушно как самоценности, как оплот земной жизни, бунт же Катерины против этих устоев – протест эмоционально изголодавшейся и духовно истощенной души против бездушия. Однако духовный голод невозможно удовлетворить одной душевностью. Его можно перебить ею, не более. А вот если даже перебить нечем, тогда человек или находит духовный путь для выхода из этой западни и спасается, или… погибает.
У Катерины, при всей ее сбитости с толку, какие-то представления о духовной жизни есть. Она в какой-то мере осознает, что впадает в бесовское искушение, но почему с такой живой душой не находит надлежащего окормления у приходского пастыря? Почему жажда вырваться из тьмы всепоглощающей лжи оборачивается гибелью? Уж не потому ли, что в этом мире есть своя правда?
А может, именно в лицемерии Кабанихи, Варвары и пр. как раз и состоит правда мира, восстание против которой – неправда, неизбежно влекущая худшее зло? Если «весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19), может, и надо, живя в нем, принимать его правила, ну, хотя бы, не бунтовать, поскольку, если уж сказано, что «лежит», значит, дело это обреченное, и как бы не было чего хуже? Логика пресмыкательства изворотлива, и многие принимают ее.
Ложь это. Нет своей правды у мира. Есть правда Божия, и в мире любая правда настолько хороша, насколько Божией правде соответствует. И настолько порочна, насколько уклоняется от нее.
Почему Кабаниха не вызывает сочувствия, а Катерина – да? Катерина, в отличие от Кабанихи, – живая. Заранее боится, предчувствуя свое падение, мечется, просит мужа не уезжать или забрать ее с собой… Она не может и не хочет примиряться с ложью, жаждет любви, любит всей душой… Но птицы, в самом деле, только кажутся небесными существами. Она хочет преодолеть это всеобщее пресмыкательство, но не может внутренне вырваться из порочного круга оземлененного ума: взлететь, улететь… а почему не совознестись Христу?!
Так всё же, почему ей в голову не приходит обрести основу в своей, пока еще не до конца растраченной вере? Может, потому, что церковная жизнь в ее глазах – неотъемлемая часть «темного царства», где религия – институт для обслуживания потребностей населения, Кабаних – в первую очередь, вот и не видит она в храме островка спасения от «тьмы века сего» (Еф. 6:12)?
Кабаниху всё устраивает именно в таком состоянии: чтобы религиозность служила утешением, успокоением ее пресмыкательству – его оправданием даже. Катерина в религиозности до поры до времени видит отдушину своей душевности, не более. Однако трагедия в том, что, если Кабаниха в любом случае осталась бы такой, какова она есть, потому что она себя такая, какая есть, устраивает, Катерина могла бы стать другой именно в силу искренности, если бы только ей было уделено необходимое пастырское внимание, если бы ей дали почувствовать, что храм – это не всего лишь территория удовлетворения «духовных нужд православного населения», не идеологический сектор культа старины и порядка, а купель покаяния для возрождения во Христе и площадка совознесения Ему.
Наверное, в наше путаное время как никогда ранее важно помочь жаждущим полета Катеринам увидеть в Церкви эту площадку, чтобы жить в мире, будучи свободными от него; вознестись и утвердиться, но не с птицами в небе голубом, а «над небом голубым» (именно так, «над» в оригинале) со Христом.