
«За дежурство к нам обращается пациентов сто»
— Вы сказали, что только что похоронили человека, с которым работали 45 лет, и с трудом приходите в себя. Что это был за человек?
— Борис Корнеевич Гиберт — уходящий формат профессоров, преданных своему делу, совершенно безотказных, из тех, что на работе круглые сутки, впутываются в самые тяжелые операции, всегда защищают своих. Он был нам как отец, я с ним 20 лет проработал в санавиации, мы с ним исколесили всю Тюменскую область. Когда хирурги начинали штатно делать операцию и вдруг получали кровотечение, с которым не могли справиться, либо делали находки, с которыми не знали, как дальше быть, то единственный человек, который мог найти решение, это Борис Корнеевич. А если он не знал, то уж никто не знал.

Николай Бородин
В быту Борис Корнеевич тоже был неординарный человек. Его родители были потомками пленных немцев, после Первой мировой войны осевших в Сибири. Все были врачами. Сам он был заслуженным врачом, и профессором, и заведующим кафедрой, и главврачом Областной клинической больницы. При этом находил время и на рыбалку съездить, и пошутить, и книги почитать. В последние годы почему-то увлекся «Государем» Макиавелли и часто его цитировал.
Такие люди вообще исчезают из медицины. Все гонятся за деньгами, и уже никому не приходит в голову, что можно жить на работе.
Николай Алексеевич Бородин — заслуженный врач Российской Федерации, колопроктолог, хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии института клинической медицины Тюменского государственного медицинского университета. Выпустил учебник по хирургии, который в 2018 году был признан лучшим учебником РФ в области клинической медицины и фармацевтических наук.
— Врач должен быть профессионалом или подвижником?
— Подвижник — слишком громкое слово. «Ему судьба готовила путь славный, имя громкое народного заступника, чахотку и Сибирь». Деньги не противоречат призванию. Но как преподаватель я много работаю с молодежью и вижу, что все поначалу мечтают стоять за операционными столами и быть крутыми хирургами, как в Институте Склифосовского. А как поработают немножко, увидят, что тяжеловато, да и риски такие, что чуть что — по судам затаскают, ну и перебесятся. В медицину уже не хотят.
Есть и другой сценарий. Вот ты поработал хирургом, понял, как это делается, а потом выбрал узкую специализацию и идешь по коммерческой стезе. Например, покупаешь себе лазер, обучаешься и выжигаешь лазером вены всю жизнь. Ну, какой ты подвижник?

Хирургия — это такая область, в которой ты даже к концу жизни не сможешь ответить на все вопросы, которые тебе могут задать. Вызывали тут меня в экспериментальный нейрохирургический центр. Пациент с перитонитом в коме, и какой-то участок кишки у него весь имбибирован мелкими пузырьками воздуха. Это пневматоз кишечника, редчайшая вещь, жизнь проживешь, а такого не увидишь. С кем ее обсудить — с тем, кто с 9 до 6 вены оперирует? Нет, конечно. С тем, кто отдежурил 10 тысяч дежурств, истоптал три пары железных лаптей, истер три железных посоха, сжевал три железных хлеба. Потому что это и есть настоящий хирург.
Я объясняю студентам, что они должны сами проявлять инициативу. К нам в больнице за дежурство только хирургических больных обращается человек 100. Приходит третьекурсник. «Тебя как звать? — Паша. — Ну что же, Паша, пошли осматривать больных». Так он узнает не из книжек, а на практике, где признаки аппендицита, а где прободной язвы. У нас были студенты, которые оставляли номер телефона и просили звонить им в любое время, если нужно ассистировать на операции. Эти ребята практически жили в больнице. Поначалу все мы энтузиасты, немножко романтики. Нам хлеба не надо — работу давай.

«Пинка дали — и полетел»
— В какой момент человек от ассистирования переходит к самостоятельной работе? Как понять, что готов разрезать живого человека?
— Ты стоишь, тихонечко примериваешься, а старший хирург тебе: «Ну не мнись уже, вот тебе скальпель — и начинай». Как в том анекдоте про парашютиста: пинка в зад — и полетел. И ты берешь и режешь. Потом снова и снова. К любой рутине привыкаешь. Разрезать-то легко, трудно решение принимать. С какой стороны подобраться, если повсюду спаечный процесс и кровотечение, которое не можешь остановить. Вот и мучаешься, весь в мыле.
— Помните вашу первую операцию?
— Я с 3-го курса начал дежурить, а на 5-м зашивал раны, вскрывал абсцессы. Но малая хирургия — тоже хирургия. На 6-м курсе я познакомился со своей будущей женой, мы начали встречаться и стало немного не до работы. А после свадьбы вернулся в больницу, и вот тогда уже сделал свою первую полостную операцию — аппендэктомию под местной анестезией. Останавливаешь кровотечение, находишь червеобразный отросток, и поначалу тебя всю дорогу за руку держат. А 15–20 операций сделаешь — никто уже к тебе и не подойдет. Ты уже Шумахер, летчик-ас, гони сам.
И в этот момент хирургия тебя ловит, заставляет воспитывать в себе пожизненные внимательность, ответственность и аккуратность.
Не расслабляйся, не болтай с сестрами во время операции, а не то получишь такие осложнения, что и работать больше не захочешь.
Но правда и в том, что настоящим хирургом становишься не после первой операции, а после первого осложнения.
— Бывало, что хотели все бросить?
— Ну а с кем не бывало? Может быть, есть везучие люди, которые никогда не ошибались и у кого не опускались руки. Но это, скорее всего, значит, что они нетерпимы к чужим ошибкам. Обычно у каждого наступает период, когда ничего не хочешь. Потом потихонечку восстанавливаешься, и снова пошло-поехало, опять бежишь в своей упряжке. И со временем начинаешь оперировать самых тяжелых больных, среди которых немало таких, которые не смогут выжить. Твоя задача — дать им шанс. В двух случаях вытянешь, в третьем — нет.
Я за жизнь работал в четырех больницах, и в каждой наступал момент, когда анестезиолог отзывал меня в сторону и говорил: «Николай Алексеевич, вы что, не понимаете, что вам дают самых тяжелых?» Ну да, понимаю. Но должен же кто-то и такие операции делать. Но все-таки я потом в колопроктологию ушел, чтобы немного облегчить себе хирургию.
«На улице минус 38, а тебе ехать за 250 километров с мигалкой»
— Вы работали в санавиации — самая тяжелая медицинская поденщина. Это был ваш выбор или обязаловка?
— Я работал в областной больнице. Ее задача — оказывать помощь крестьянину, чтобы из деревни Камышенка Абатского района человек мог приехать и прооперировать грыжу позвоночника. Пришел работать в начале 2000-х и был к этому времени уже хирургический самурай, который полжизни провел на дежурствах. На базе этой больницы и сложилась санавиация, и меня к этому делу быстро подключили.
Восемь дней в месяц днем и ночью ждешь, что тебя дернут. На улице 38 градусов мороза, а тебе ехать за 250 километров с мигалкой. Поначалу за это почти не платили сверхурочных, а когда выезды стали хорошо оплачивать, то сил и времени на них уже не хватало. Я вел прием в двух поликлиниках, студенты, кафедра, а тут еще санавиация — просто голова кругом шла. Я отработал в ней 20 лет и, когда решил расстаться, вздохнул с облегчением.

Были очень страшные ситуации — например, выезжали на падение самолета, где никто не выжил. Это уже больше относится к медицине катастроф, но по тревоге подняли и нас. В какой-то момент к нам подключили перинатальный центр. Когда у беременной аппендицит или острый панкреатит, либо ей кишечник поранили во время кесарева, то своими силами акушерам не справиться, нужен хирург. Причем хотели они не какого-нибудь парнишку из городской больницы, а именно санавиацию.
Я бесконечно уважаю акушеров-гинекологов из перинатального центра, это те еще рабочие лошадки. Их работа впечатляет. Раньше кесарево делали под наркозом, и передозировка наркотических средств могла быть травматичной для ребенка. Сейчас применяют перидуральную анестезию, но это значит, что врачам надо действовать максимально быстро и согласованно. Со стороны это выглядит жутковато — кажется, что они с ножами, как коршуны, набрасываются на несчастную беременную, чтобы вскрыть ей матку.
У меня мороз по коже, а они уже раз — и достали ребенка, который весь синий и орет. Родилась человеческая жизнь.
Но и ужасов я там насмотрелся достаточно. Помню пациентку родом из Таджикистана, из очень патриархальной семьи. После первого кесарева ей сказали: «Беременеть больше нельзя». Она забеременела снова. Опять кесарево, опять предупреждают. И снова она ждет ребенка, потому что не может признаться мужу, что ей больше нельзя рожать. Она перенесла шесть операций, и в результате образовался такой мощный спаечный процесс, что брюшина стала похожа на панцирь. Когда эта пациентка легла на стол в седьмой раз, у нее началось такое кровотечение, что мы перелили ей 70 литров крови. Но в итоге спасли.
— Приходилось ли вам делать что-то впервые во время работы в санавиации?
— Да! Расскажу про случай из 90-х. Милиционер впервые получил табельное оружие. У него на днях должна была состояться свадьба, у невесты девичник. Жених заявился туда с пистолетом и давай хвастаться. Девчата попросили подержать. Он вынул обойму, но в стволе остался патрон. Девушка об этом не знала, шутки ради нажала на курок и прострелила этому молодому человеку печень. Сделала в ней дыру размером со стакан.
Печени хирурги очень боятся, потому что до нее трудно добраться, это, по сути, отдельная специализация. Беднягу дважды прооперировали, но он все равно истекал кровью.
Мы примчались ночью в этот поселок, я позвонил из больницы друзьям-травматологам: «Ребята, что делать-то?» Они говорят: «Тебе нужен доступ Рио Бранко. Срежь остроконечный лоскут, максимально оттяни кожу и высвободи сегмент печени». Говорю местным врачам с умным видом: «Делаем разрез Рио Бранко. Сейчас покажу». А сам-то впервые в жизни!
Но действительно, печень удобно сместилась, я прошил, только кровотечение все равно не останавливалось. В итоге мы затампонировали ее хирургическими полотенцами, а я всю ночь сидел рядом с пациентом и наблюдал, будет ли кровь вытекать по трубке. Не вытекала! Потом парня перевели в областную больницу, через неделю полотенца убрали, кровотечения больше не было. Спасли.
Сети, робот и три банки спирта
— Когда вы впервые попали в зарубежную больницу?
— Я так туда ни разу и не попал. Все 90-е все куда-то уезжали, а я оставался на хозяйстве. Зато в нулевые годы уже к нам стали приезжать иностранцы. Был у нас в Тюмени один коллега, который уехал сначала в Израиль, оттуда в Америку и сделал хорошую карьеру.
И вдруг его заела ностальгия, он собрал своих друзей-эндоскопистов (кстати, все афроамериканцы), и они приехали к нам в гости. Мы проводили совместную операцию, и американцы удивились, что у нас почти такой же уровень, как у них. Они совершенно этого не ожидали.
— А оборудование, расходники?
— Все шло по остаточному принципу. Мы резали трубки и использовали их как дренажи. А еще у нас в Тюмени была знаменитая сетевязальная фабрика. Старшая сестра оперблока шла туда с тремя или четырьмя трехлитровыми банками спирта, а ей отсыпали мешок материалов, из которых вязали сети. Потом наши хирургические барышни мыли их стиральным порошком, замачивали в разных спиртах, и через три месяца у нас был первоклассный стерильный шелковый материал. А сейчас мир изменился. В 2014 году нам поставили за 4 миллиона долларов робота «Да Винчи» — такого же, как в клинике Бунданг Сеульского университета. Наши специалисты говорят, что пока не встречали ничего, что так облегчало бы работу.
У нас в Тюмени очень неплохой радиологический и нейрохирургический центры, есть Больница нефтяников.
Нам нечего стыдиться. Другое дело, что все это заканчивается за нашим тюменским МКАДом. Там уже другая реальность.
Я сам недавно попал в больницу в качестве пациента, и со мной лежал американец из Флориды, у которого тут родственники. Он с удовольствием прооперировал тазобедренный сустав, поменял глазные хрусталики. В Америке это обошлось бы ему в неподъемную сумму.
— А робот впрямь необходим за огромные деньги?
— Мы успели его купить, когда доллар был еще дешевый, и с тех пор робот — наш лучший помощник. На нем экономится куча денег и ресурсов во время операции и в послеоперационном периоде. Он ассистирует гинекологам, сосудистым хирургам и особенно урологам. Операции на простате получаются куда более щадящими, менее инвазивными, пациент выходит из них без длительных проблем с мочеиспусканием и без потери эректильной функции. Разве это не стоит денег, к чему тут крохоборство? Наверное, и грыжу можно оперировать без сетки, она ведь целых 10 000 рублей стоит. Только с сеткой рецидив 1%, а без сетки 20%. У вас на компьютере тоже раньше дискета была, а теперь флешка.
«Живут за границей, но лечиться едут домой»
— Давайте поговорим про образование врачей. Мы все время слышим, что их не хватает. При этом выйдешь на улицу — и на каждом углу какая-нибудь частная клиника. Кто в них работает и как понять, что эти люди умеют лечить?
— Ну и вопросы у вас, длиною в жизнь. Во-первых, в государственной больнице тоже не всегда умеют лечить. А что касается частных клиник, то самые нормальные из них не гонятся за сверхприбылью, а ищут в тех же государственных клиниках нормальных врачей. Они приглашают их на часть ставки или на полную, дают им рабочее место, дорогое оборудование, и за это берут себе 70% выручки. Хитрость в том, что такие клиники, как правило, выбирают узкую специализацию, отработанный метод, и кроме этого ничего не умеют. Лечат геморрой дезартеризацией, геморроидальные узлы радиочастотной абляцией, вены лазером и так далее. У них постоянный приток платежеспособных клиентов, и при этом они обычно не нуждаются в финансово затратном стационаре.

Второй тип клиники — те, которые предлагают хорошие, эффективные операции и процедуры, которые не нужны. Может быть, они когда-нибудь и понадобятся, но не сейчас. Однако тебя убеждают, что нужно оперировать срочно, иначе до завтра не доживешь. Вот такое запугивание, конечно, означает, что персонал там недобросовестный. Все-таки профессионал — по умолчанию честный человек.
Ну и совсем тяжелый случай — это клиники, которые подсовывают неправильные анализы, предлагают какие-нибудь «уникальные методики», приправленные квазинаучной терминологией. Это вообще не врачи, а жулики, от них лучше держаться подальше.
Недавно я в Сочи вывихнул плечо, пришел в травмпункт, и мне все отлично вправили, но то была экстренная ситуация. А если речь идет о каких-то серьезных решениях, то я, конечно, поеду в Тюмень, где все врачи — либо мои коллеги, либо бывшие студенты. В этом смысле я в привилегированном положении.
Но вообще-то каждый человек должен подходить к выбору врача ответственно: исследовать отзывы, наводить справки, чтобы понимать, к кому и куда ты идешь.
Ко мне часто обращаются с вопросом, к какому врачу лучше пойти, и это нормально.
— Интересно, во Франции или в Америке к врачу тоже нельзя прийти с улицы, а нужно провести предварительное исследование?
— Я вам точно могу сказать одно: сейчас по всему миру, от Вацлавской площади до Камбоджи, звучит русская речь. За границей россиян очень много, все жалуются на систему зарубежного здравоохранения и к зубному врачу или гинекологу, по возможности, едут домой. У знакомой ребенок заболел в Испании коклюшем, и они не могли попасть на прием даже за деньги. Им сказали: «Давайте парацетамол и ждите, пока само пройдет». Оно, может, и пройдет, но когда? Наши врачи провели онлайн-консультацию, посоветовали небулайзер и гормональный препарат, на который прислали рецепт по электронной почте. Небулайзер дома был, а вот за лекарством маме пришлось побегать, но в итоге нашлась аптека, где отпустили по нашему рецепту. Она пролечила ребенка, и кашель прошел. А то бы до сих пор ждала. Так что давайте поменьше себя ругать.
«Учебник — это твоя подушка под голову»
— В других странах врачи читают научную литературу по специальности, пользуются международными информационными ресурсами, а у нас и английского-то подчас не знают. Есть такая проблема?
— Если есть реальное достижение в твоей области, не думаю, что его можно поймать только в иностранных журналах. Все равно все мы примерно знаем, что происходит. Тут ключевое слово не «читать по-английски», а просто читать, и не на бегу, одним глазом, с телефона. В старину было такое слово — «штудировать», когда делали ручкой конспекты, возвращались к прочитанному, делали в конспекте зарисовки на полях, потому что в хирургии важна трехмерная картинка.

Сейчас штудировать не умеют. А ведь многие книги по специальности написаны людьми, которые к каждому слову относились очень ответственно. Возьмите какой-нибудь учебник по акушерству Савельева и Шалимова, или «Этюды желудочной хирургии» Сергея Юдина — там каждое слово имеет значение. Может быть, прежде чем гнаться за ежемесячными публикациями, стоит просто взять эти книги и до последней буковки изучить?
Жили мы когда-то с одним коллегой на квартире в частном доме, когда я вставал часов в 7, он уже с 5 утра сидел на веранде и штудировал анатомию. У человека была цель — стать великим хирургом. И все у него получилось. Он много лет ведущий онколог в нашей области, может оперировать все, максимально востребован. Как говорил боксер Тайсон: «Я добился многого, потому что делал то, что другим людям делать было лень — например, бегал каждый день в 6 утра».
Проблема в том, что некоторые и по-русски ничего не читают. Бывает, спросишь у молодого ординатора: «Вы что-нибудь прочитали за последние полгода?» Молчит.
— Стоит ли штудировать учебники, которые устарели?
— Те, что были написаны сто лет назад, устарели. А то, что вышло в 1990-е-2000-е — это твоя база, твоя подушка под голову. К ней можно постепенно пришивать кружева и оборочки — новую терминологию, новые данные. Есть, конечно, совершенно инновационные области — например, внутриутробные операции. У них все время что-то новое, сверхтехнологичное происходит. Но не все же небожители.
— Если молодой ординатор имеет свое мнение, то лучше ему его держать при себе, потому что главврач думает иначе. Это так?
— Эту проблему выдумали режиссеры, которым для сюжета нужен конфликт, что-то вроде «бюрократы против пламенных комсомольцев».
Сейчас положено работать по национальным стандартам, и именно в них ты должен уложиться, а не в то, что главврач, завотделением или начмед тебе скажут.
Но, чтобы применить стандарт, нужно изучить симптомы, использовать какие-то методы дедукции и в итоге поставить диагноз. Ну и какова тут роль молодого мятежника? Например, у больного панкреатит, а он говорит: «Это пневмония». Ну, хорошо, докажи! Скоро все равно все разъяснится. А дальше — умеешь оперировать поджелудочную железу? Так иди и оперируй. Только молодые что-то не особо рвутся.
— Ставить диагноз всегда сложнее, чем лечить?
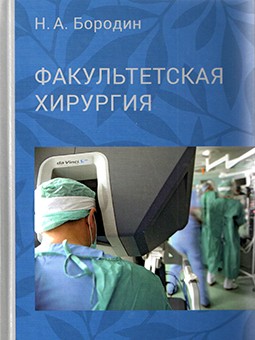
— Как лечить, если диагноза не знаешь? Приходит молодая женщина, жалуется на боль в средней части живота. Ищем признаки холецистита, панкреатита — ничего. На кишечную непроходимость тоже не тянет, анализы в норме. Сделали лапароскопию, оглядели кишки — ничего. А у нее болит и болит. Поехала в Москву, в частную клинику, где ей сделали и колоноскопию, и эндоскопию, и камеру она глотала, которая пролетела через все кишки и тоже ничего не выявила. Техники-то нынче полно, любой каприз за ваши деньги. Только вот диагноза как не было, так и нет. Возвращается в Тюмень. В итоге мы сделали ей операцию и обнаружилась редчайшая вещь: в передней брюшной стенке была киста, и она воспалилась. На КТ ее не заметили, но, возможно, сейчас эти аппараты стали более точными. Дело было 10 лет назад. В любом случае, таких кист — один случай на миллион, никому просто в голову не пришло.
За что ценили старых врачей? Они видели, что у больного симптомы, похожие на пять заболеваний одновременно, и ни на одно полностью. И вот они скрупулезно, буквально по единичке в анализах, разбирались и были огромными мастерами своего дела. Сейчас мы вооружены инструментальной диагностикой, но бывают случаи, когда и с ее помощью разобраться сложно. А уж коли разобрался, то остальное — дело техники.
Фото: freepik.com и из личного архива Николая Бородина


