«Я предпочел бы, чтобы 2022 года не было». Александр Архангельский

«Самый тяжелый год для моего поколения»
— Александр, расскажите про свой 2022 год. Как он вообще у вас прошел?
— 2022 год в жизни моего поколения, наверное, самый тяжелый. Хотя мы прожили 90-е. Я вообще закончил университет педагогический в 1984-м. Это закат советской эпохи, предстоящая смена всего, афганская война, чеченская война в 90-е.
И нынешний год самый тяжелый просто потому, что какая бы мука ни была в те же 90-е, оставалась перспектива. Ты понимал, что впереди что-то, что будет близко тебе. И это было обретение Родины. Потому что поздний Советский Союз я родиной не считал.
Моим городом была Москва, это была родина. А государство как родину я не воспринимал. В 90-е мы через мучения обретали это чувство родины. Что это та земля, которая будет устроена благим образом, когда-нибудь, не сейчас, но будет. Пройдем, справимся, родителям поможем.
А в 2022 году стало ясно — все, что я и люди похожие на меня строили, рухнуло. «Кто виноват», «что я сделал не так», «что будет с детьми», «на что будет похожа эта земля, буду я ее называть “эта страна” или “моя страна”» — эти вопросы передо мной со всей остротой встали.
Новую эпоху я встретил за границей, я был в этот день во Франции. Мы тут же собрались и через день вернулись домой. Вопрос, ехать или нет, не стоял. Во-первых, в Москве были дети. Во-вторых, это государство, среди прочего, я создавал. И если оно развернулось ко мне спиной, значит что-то не так делал я, не только власть, не только политики, не только экономисты.
Уйти в глухую несознанку, спрятаться за забором я себе позволить не мог.
Дальше я сделал то, что мог на своем месте. Я ездил по стране с лекциями и встречами — не политическими, скорее культурно-историческими. Это были откровенные разговоры по душам — про то, как выйти из ступора, как общаться с близкими. Я был от Белгорода, где граница совсем рядом, до Новосибирска, от Екатеринбурга до Михайловского, от Михайловского до Пскова. Во многих местах.
И маленькие, и большие города живут очень по-разному. Я не верю ни тому, что говорят мои либеральные друзья, ни тому, что говорит мое не либеральное государство. Жизнь устроена иначе, она многоукладная.
Я нигде не видел энтузиазма. Видел приятие [происходящего] у отдельных людей, неприятие того, что происходит, ужас, непонимание того, как в профессии оставаться. На учительских семинарах главная тема — как входить в класс и разговаривать с детьми.

Александр Архангельский. Фото: Анна Данилова
Студенты спрашивали не о том, как оценивать происходящее. А о том, как вести себя в семье. Бабушка у вас за, дедушка нейтрален, мама против, а папа ругается матом и говорит, что «все вы предатели, наймиты Запада», а девочки и мальчики занимают свою юношескую позицию. Для меня это было важнее, потому что семьи остаются. И мы разговаривали об этом.
А перспективы, надо понимать, плохие. И крах коснулся всех институтов, в строительстве которых я принимал участие. Школу будут загонять в глубочайшую архаику, если раньше ориентировались на образцы 25-летней давности, то сейчас — на образцы 50-летней давности. Возвращение в школу «Молодой гвардии» Фадеева — это один из мелких симптомов. И НВП (начальная военная подготовка) — это реставрация, перешедшая в стадию реакции, реакция, перешедшая в стадию реванша (с 1 сентября 2023 года в школах будут преподавать начальную военную подготовку в рамках курса ОБЖ. — Примеч. ред.).
Так бывает в истории. Но моя жизнь не равна истории. Моя частная жизнь в лепешку смята. И школа, которой я занимался, смята. Университеты под вопросом, давление [на них] будет возрастать.
Санкции коснутся технологического обеспечения. Мы обгоняли многие страны в развитии и производстве цифровых технологий. В том, что касается жизни музеев, библиотек, онлайн-курсов. Мы были впереди не всей планеты, но части европейских стран. А сейчас будем отставать. <…>
Надо жить. Потому что плохая жизнь лучше, чем хорошая смерть. Я исхожу из того, что Господь Бог зачем-то — я не понимаю, зачем — поставил меня в эти обстоятельства.
Как минимум допустил. И чего-то от меня ждет. Я все время спрашиваю: чего Ты от меня ждешь? Чего Ты от меня хочешь? И ответа я пока не получаю, но бессмыслицы тоже не вижу.
Я предпочел бы, чтобы 2022 года не было. Чтобы его просто ластиком стереть, забыть, перелистнуть.
— Как ковид.
— Как ковид. Но как ковид не получится. Нам придется отвечать и за чужие грехи, и за свои собственные.
— Какой у вас самый сильный страх за все это время?
— Всегда страх самый сильный за детей. Дети-то не виноваты. Это вечный ответ взрослого, который чувствует свою вину.
— Которых родил, а мир оказался…
— А мир оказался не тот, что мы им обещали. Не тот, к которому мы их готовили. И они нежные, слишком хрупкие для этого мира. Я думаю, что они немножко огрубеют внешне, шкурка толстенькая нарастет рано или поздно. Но сейчас им гораздо больнее, чем нам, просто потому что шкурка тоненькая. Мировой выделки, не ориентированной на экстремальные обстоятельства, в которые мы их ввергаем.

Фото: Даниил Прокофьев / Высшая школа экономики
— В чем вы находили повод, возможность, причину в принципе что-то делать? Весной все находились в состоянии оцепенения и могли только новости читать круглосуточно.
— Я не мог читать новости, заставлял себя. Прятался от тех информационных осколков, которые летели в мою бедную голову. Я суммировал новости, не проживал каждую в отдельности, а заставлял себя в определенное время выйти на связь с внешним миром, получить [информацию] и уйти опять в себя. Мне главное, все-таки, договориться не с миром, а с самим собой.
Почему работа? Я работал много. Даже когда сил не было. Я всегда жил по принципу — помирать собрался, а рожь сей.
И если бы я потерял возможность работать, наверное, психика моя не выдержала бы. Когда крошится мир, который ты строил, и рушится все на тебя… Я по-новому прочитал строчку Солженицына в его статье «Как нам обустроить Россию»: «Пробил час на башне коммунизма, и теперь главное, чтобы осколки не рухнули на нас, не погребли нас под собою». Осколки того мира, который мы строили, не коммунизма уже, а посткоммунизма, полетели на наши головы. <…>
И много сделано за этот год. Я могу сказать, что с точки зрения производственной год очень удачный. С точки зрения психической — катастрофический. На этих полярных весах катастрофы и труда этот год и строился.
«Твой ребенок должен уехать или остаться в стране?»
— Как вы разговаривали со студентами? Один из самых сложных вопросов этой весны — «что ждет в будущем наших детей». Экзамены сдать нельзя, бакалавриат и магистратура тоже [под вопросом] — мы вышли из Болонской системы…
— Все-таки есть страны, которые закрыли путь для русских студентов. В смысле — из России. Например, Тартуский университет (Тартуский университет (с 1918) — старейшее высшее учебное заведение в Тарту, Эстония. — Примеч. ред.), что с моей точки зрения несправедливо. Потому что Тартуский университет всегда был интернациональным.
— Они отчислили русских студентов?
— Не отчислили. Но запретили принимать студентов без вида на жительство.
Студент, поступающий в западный университет, получает право жизни в этом городе до тех пор, пока он учится. Но право поступить у него должно быть до того, как он получит вид на жительство. Тарту, к сожалению, этим правилом пренебрегло.
С каким пониманием я бы ни относился к Балтии, обида, боль, грехи наших отцов по отношению к этим странам — не нашим внукам расплачиваться за наших дедов.
Большинство университетов ведет себя в этом смысле иначе. [Вузы] для поступления открыты. Сдавать [экзамены] можно разными путями. <…> Есть программы американских университетов. Правда, как визу получить — отдельный вопрос.
Решаемо все, кроме ответа на вопрос, что дальше. Как сохранить детей для страны и нужно ли это делать. Или стоит их выталкивать, выпихивать. Это вопрос, на который каждый родитель будет отвечать, и каждый ребенок должен дать себе ответ.
Не дай Бог заставить ребенка уехать, если он не приспособлен к жизни там, не дай Бог оставить его здесь, если ему что-то грозит.
Это выбор не из лучших. Но его все равно приходится людям делать.
О русской эмиграции — тогда и сейчас
— Такой выбор сложно сделать из собственной жизни. Как сейчас в разных социальных сетях пишут: «Зачем русская эмиграция возвращалась в Советский Союз?» С большого исторического расстояния можно это обсуждать.
— Да, конечно. Мне стало понятно, почему Пастернак вернулся, который уезжал. В его биографии не очень акцентируется внимание на том, что он был в Берлине, но приехал обратно.
Во-первых, потому что деньги кончились. Во-вторых, потому что встраиваться в новую реальность не менее тяжело, чем выживать в привычной, но искаженной, вывернутой наизнанку.

Фото: Анна Данилова
И сейчас мы видим, что не обустроены люди уехавшие. Это тяжелая жизнь. Те, кто говорят, что [жизнь за границей] — это привилегия, ошибаются. Привилегия — потенциальная возможность уехать: социальный статус, финансы, связи, языки. Это только предпосылки.
Момент, когда человек пересекает границу и оказывается по ту ее сторону — это тяжелейшее психическое состояние. Потому что ты не знаешь, где проснешься завтра. Ты не знаешь, отменят визу или нет. Те, кто бежал в первые дни, оказались без [кредитных] карточек. Потому что внезапно, без предупреждения им эти карточки обнулили.
Все говорят про гуманитарные визы. Но забывают, что в той же Германии, чтобы получить такую визу, ты должен жить, где тебе скажут. И не понимать, что будет с тобой завтра, послезавтра.
Это тяжелейший путь и личный выбор.
Я ненавижу, когда начинают одни, оставшиеся, говорить тем, кто уехал — «вы же нас бросили». А те, кто уехал [отвечают] — «а вы же остались…»
— Каково вам вообще читать эти дискуссии, в которых объясняется, что все, кто остались, виноваты…
— Во-первых, я стараюсь их читать пореже. Некоторая аскетическая дисциплина вещь полезная, особенно в переломные моменты истории. Такие дискуссии — это избыточно, правда? Без этого можно жить.
Если есть свободное время и все хорошо, можно поболтать о том, что второстепенно. Когда жизнь загнала тебя в угол и ты задаешься вопросом, как дальше будет все — и ты, и мир, — тебе просто не до грибов, как говорили в нашем детстве. Не до пустоты. Не до пустомель.
Да, человек слаб. Я тоже. Иногда зацепишься взглядом и нырнешь в эту мутную воду. Но главное вовремя вынырнуть и не захлебнуться.

— Было что-то новое в 2022-м, что вы про себя узнали?
— Не очень приятное. Я думал, что сильнее, что психологически более защищен, что я холоднее.
Я понял также, что умею работать в ситуации, когда не работается. Это скорее хорошее. Что, наверное, мне хватает сил разговаривать с очень разными людьми в ситуации, когда не хочется разговаривать ни с кем. Даже с самим собой. Эти открытия были сделаны.
Как говорить с людьми, с которыми не согласен
— Как вы это делаете — разговариваете с разными людьми, когда не очень хочется?
— Смотрите, есть люди, с которыми разговаривать бесполезно. И это «агитаторы — горланы — главари», выражаясь по Маяковскому. И они закрыты для любого разговора. Эти люди понимают, что есть идеология, она с их точки зрения правильная и подчиняет себе все. И зачем они нужны тебе для диалога? Бесполезно. Не надо тратить время.
Есть люди, которые убеждены в чем-то. Но в них есть открытость к чужой точке зрения. С ними можно обменяться, если хотите, информацией. «Я думаю так-то. А ты как думаешь?» Спорить бесполезно, потому что они не сдвинутся, да и ты не сдвинешься. Но как минимум обменяться человеческими чувствами можно. И оставить след. Сказать: «Вот есть такая точка зрения. Подумай, может быть, она окажется правильной?»
А есть люди, которые колеблются и нуждаются в некоторой встречной твердости.
Они оказываются по ту сторону баррикады не потому, что они там. А потому что им уютнее с большинством.
Они хотят быть как все. И просто не видят, что есть другая точка зрения, другие люди, иначе мыслящие и не злобные. И с ними тоже можно и нужно разговаривать.
Но и с теми, кто придерживается той же точки зрения, можно разговаривать с разной степенью откровенности и глубины. Потому что и свой может быть идеологом, колеблющимся, готовым подвинуться или не готовым подвинуться.
И это искусство коммуникации, а не цинизм. <…> Это разговор, который не заставляет тебя изменять самому себе, но позволяет в другом увидеть человека, а не идеологическую матрицу.
Насколько это правильно — сложный вопрос. Потому что от того, как думают люди, зависит то, как складываются события. И если люди думают тотально, то и события будут тотальными. Если люди агрессивны, то и события будут агрессивными. Если люди допускают веру в абсолютный бред, который им внушают, то этот бред будет воплощаться в реальности, надвигаться на нас страшной тенью.
Не знаю. Может быть, это абсолютно неправильно. Может быть, надо быть идеологом. Я не умею.
Самое большое разочарование в 2022-м
— Какое самое тяжелое разочарование у вас было за эти месяцы? Может быть, потери какие-то? Я разошлась с несколькими близкими друзьями, потому что поняла, что мы находимся во многих вопросах на скрещивающихся плоскостях.
— Среди моих друзей есть мыслящие иначе. Иначе — не значит совсем по-другому. И никто не развернулся в противоположную сторону, не перевернулся, не переобулся в воздухе.
Но есть гораздо более серьезная для меня потеря. Я не знаю, как ее сформулировать, чтобы никого смертельно не обидеть.

Фото: tatmitropolia.ru
Церковь как мистическое Тело жива. И не только потому, что есть замечательные священники, которых мы все знаем и можем перечислять. Но потому что там веет Дух. Как это происходит, почему — я не знаю. У меня нет ответа.
Но как социальное тело, как социальный организм, как институция управленческая — я не понимаю, как в ней оставаться. Но остаюсь, потому что я про мистику, а не про политику.
— Это кризис веры?
— Нет, это кризис принадлежности. Это кризис администрации. Это кризис управленческой модели. Но и для многих, для тех, кто не успел вписаться в эту живую ткань, в эту плоть, когда она была живой и страдающей плотью — наверное, это очень тяжело. Я не знаю, я вряд ли пришел бы в эту Церковь, если бы мне предстоял выбор сегодня, а не много лет назад.
А что касается друзей, то, видимо, мне повезло.
— Это здорово. Потому что я прямо по пальцам могу пересчитать тех, чьи семьи не разделили бы происходящие события.
— С некоторыми мы даже сблизились. Мои глубоко консервативные друзья, которым нравилось все такое старое, патриархальное, когда столкнулись с тем, что детей надо спасать, вдруг поняли, как мир вокруг нас оказался устроен. И переменили свои привычки, ориентиры, подобрели, помягчели. И идеологически в том числе.
Об отмене русской культуры
— Вы замечали, что люди за 2022-й постарели больше, чем на год?
— Да, конечно. Это я про себя могу сказать — и физически, и психически, и эмоционально.
Москва, конечно, постарела. Особенно в интеллектуальной своей части.
Новая эмиграция — это отдельная эмиграция, другая. Такой не было. Может быть, во время революции или после нее. Уезжают молодые, интеллектуально состоявшиеся, творческие, яркие. И густота культурной жизни не здесь.
Будет заново заварена эта каша — вполне допускаю, что да. Но она будет другой. И она будет медленно формироваться новым поколением. Но как, если исчезают имена режиссеров? В программке можно прочитать «режиссер» — и пробел (имя Кирилла Серебренникова убрали с сайта МХТ имени Чехова и из программки поставленного им спектакля «Лес». — Примеч. ред.).
Это не беда для знаменитостей. Мы знаем спектакли Крымова, мы знаем прозу Акунина, мы знаем, что делал Серебренников, мы прекрасно различаем роли Чулпан Хаматовой и прекрасно знаем, кто такая Рената Литвинова и кто такая Земфира.
Но что делать следующему поколению? Оно приходит, занимает определенную позицию. Эта позиция, предположим, не совпадает с государственной. И даже если этих людей дадут с пустым именем, они не будут распознаваемы. А скорее всего, просто не дадут. И что с этим делать, я не знаю.

Фото: BFM-Новосибирск
— Несколько лет назад у вас было интервью с заголовком «Что значит быть русским». Наверное, сейчас есть какие-то другие оттенки в этом вопросе и возможном ответе?
— Ну, как сказать? Первое: я все-таки ездил в этом году не только по России, но и по миру, в меньшей степени, но ездил.
Никакой отмены русской культуры нет. Есть отмена русской культуры здесь [в России].
Отменять имена Крымова и задвигать на задние полки книжки Быкова (Дмитрий Быков внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. — Примеч. ред.) — это и есть отменять русскую культуру в том виде, в котором она сложилась здесь и сейчас.
Русская культура может не нравиться — неважно. Но это ее просто физически отменяет. А что касается памятников Пушкину, которые демонтируют — это груда металла. Пушкин будет жить. И памятники восстановят, если он будет жить.
Русские — все-таки отвечающие за все, что здесь сделано дурного, и тем самым получающие право считать своим все, что здесь было хорошего. А хорошее здесь было и будет, я надеюсь.
Но цена вопроса простая — ты готов полностью ответить? Не власть, а ты готов признать имперское сознание, которое нес в себе?
Я — нес. И это не наднациональное сознание, этническое, а именно имперское.
Но, повторюсь, можно быть русским, если ты готов отвечать за все худшее. Конечно, это не юридическая ответственность, а моральная. Но тогда ты получаешь право и на все лучшее. А лучшее было и будет.
О ценности человеческой жизни
— В некоммерческом секторе, в фондах мы привыкли к тому, что бьемся за каждую жизнь. На каждого некурабельного ребенка мы стараемся собирать деньги. И вы участвовали во многих фандрайзинговых кампаниях, жена у вас долго работала в благотворительном фонде. И этот контраст между отстаиванием у смерти каждой маленькой жизни и списками погибших, которые мы каждый день читаем в сводках, колоссален. И не очень понятно, как жить в этом новом мире тем, кто 20 лет пытался жить совсем по-другому?
— Тем, кто жил по-другому, надо продолжать это в той мере, в какой удается, здесь и сейчас. Потому что маленькие дети остаются маленькими детьми. Дети с болезнями, вошедшие в этот мир, остаются детьми с болезнями.
Помогать всем, независимо от ситуации, в которой они оказались. Помогать беженцам из Украины, оказавшимся на территории России. Тем, кто хочет остаться на территории России, помогать обустроиться здесь. Тем, кто хочет уехать за границу — помочь уехать. Человек должен иметь право выбора. Мы должны обеспечить ему это право выбора.
Фильм «Голод» и четыре катастрофы в истории России
— У вас вышел фильм «Голод». Расскажите, пожалуйста, о нем.
— В истории Советской России было четыре голода.
Голод 1921–1923 годов, который все называют голодом в Поволжье, на самом деле был гораздо шире — от Украины до Дагестана, от Поволжья до Южного Урала, и Кубань, казачьи края. Но ядро, конечно, Поволжье и Урал.
Второй голод — это голод 1930–1931 годов, казахский. Страшный голод, унесший 40% населения. Заметьте, я не сказал, что все эти люди погибли. 40% населения исчезло. Часть умерла, а часть ушла в Китай, часть переселилась на другие земли.

Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг. Фото: Herbert Hoover Presidential Library and Museum
Третий голод — это 1932–1933 годы, о котором благодаря украинской диаспоре знает весь мир.
И четвертый голод — 1946–1947 год, послевоенный, о котором мы вообще забыли. И не понимаем, почему так оскорбительно выглядели кадры «Кубанских казаков», снимавшихся в 1948-м, на следующий год после завершения страшного голода.
Отдельный важнейший сюжет — Блокада.
Голод в ХIХ веке — это когда крестьянин продавал средства производства — лошадь, корову, плуг или соху. И уходил. Иногда бывали смерти голодные. Но это редко.
А голод 1920-х годов, о котором наш фильм, захватил миллионы людей. Погибло 5,5 миллионов человек, 11 миллионов спасли западные благотворительные организации. И этот голод впервые в истории был документирован видео- и фотодокументами.
История, которую мы рассказываем — о том, как мир переступил через границы идеологии ради человека.
Да, у всех были свои интересы. Ленин прекрасно понимал, что если он не пустит западных благотворителей — конец его режиму. Западные благотворители понимали, что можно попытаться показать пример филантропии, и может быть, советские люди увидят, насколько она эффективна.
Фритьоф Нансен как практический романтик хотел просто помочь людям (норвежский полярный исследователь, филантроп, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. — Примеч. ред.). Левые организации, такие, как рабочие Германии, надеялись помочь большевизму. Папа Римский помогал атеистическому государству.
Но все в той или иной мере переступили через свои идеологические ограничения. Не важно, по каким причинам. Важно, что в центре оказался конкретный человек. Не человек с партбилетом, не человек, антисоветски настроенный, а человек как таковой. Прежде всего дети.
Это тоже был переворот, потому что крестьянская парадигма оказания помощи — «спасаем кормильца и жертвуем детьми». Западная, американская помощь — это помощь детям: «спасаем молодых, имеющих шанс прожить наибольшее количество лет». Конфликт был примирен. Американцы поступились — начали подкармливать взрослых. И крестьяне поняли, что по-другому не выйдет, придется слабых спасать. И это сдвиг, столкновение деревенской и городской культур. Это история про то, как все поступились принципами — а я сторонник того, чтобы мы поступались принципами, когда дело касается отдельно взятого человека.

Фото: Анна Данилова
Фильм «Голод» мы снимали с Максимом Курниковым и Татьяной Сорокиной в течение трех лет. Почти год собирали средства. И с самого начала приняли решение, что съемки не финансируют ни государство, ни западные фонды. Почти 2 тысячи человек пожертвовали нам на этот фильм. Мы собрали 5,5 миллионов рублей. Это не колоссальные, но приличные деньги для съемок документального кино. Можно себе позволить долго работать.
Фильм вышел только что. Пока его в интернете нет, но мы с одной из YouTube-платформ договорились, что до конца 2022 года в России его увидят. За границей английская версия будет управляться не нами, мы отдали права на управление.
— У вас было много встреч со зрителями. Что говорят люди? О чем спрашивают? Как принимают фильм?
— По-разному. Бывает, что люди в ступоре. Хотя мы снимали фильм, стараясь оставлять пространство надежды, воздуха. Мы все время подчеркиваем: да, погибло 5,5 миллионов человек, это ужасно, мы рассказываем, как это случилось. Но 10,5–11 миллионов были спасены. Там разные данные, но я называю порядок цифр. И давайте помнить о том, что люди были спасены.
Да, это ужасный опыт, но это опыт солидарности поверх границ.
Иногда люди впадают в ступор, потому что мы же не можем не показывать эти страшные кадры. Мы не акцентируем на них внимание, не выжимаем слезу, но показываем. И людоедов показываем, и останки показываем, и трупы заброшенные у могил, в гору сложенные, как в кадрах немецких военных хроник. Самые страшные кадры мы старались не включать, и самые страшные документы пересказывать, а не цитировать.
А иногда люди все-таки говорят, что да, страшно, но надежда остается.
Мы показывали «Голод» в одной из школ. Фильм «18+», но закон разрешает его показывать, если есть согласие родителей или они присутствуют. Учителя разговаривали с учениками, раскрывая эту тему до того, как мы посмотрим фильм. И у детей были очень здоровые и яркие реакции, и вопросы были замечательные. И разговор был очень душевный.
В музее ГУЛАГа был прекрасный разговор, в Ельцин-центре. Мы можем показывать фильм «Голод» в музеях прежде всего, в силу особенностей нашего законодательства. И музей должен быть готов. Но пока позволяют, мы будем показывать и разговаривать. Хотя что там можно запретить, я не очень понимаю.
Эксперименты в российском образовании
— У вас сейчас выходит подкаст на «Арзамасе» про историю образования в России. Я понимаю, что вы изучили огромный этап очень детально. Можем ли мы поговорить о том, что было сделано хорошо и правильно в российском образовании?
— Я бы сказал, что хорошо было, например, в позднесоветский период. Ярко — в XVIII веке. Когда при Петре I люди инициативные боролись за образовательную сферу как сферу статуса доходов. Это были авантюристы и прожектеры, об этом Игорь Федюкин написал замечательную книжку (историк Игорь Федюкин написал книгу «Прожектеры. Политика школьных реформ в России в первой половине XVIII века». — Примеч. ред.).
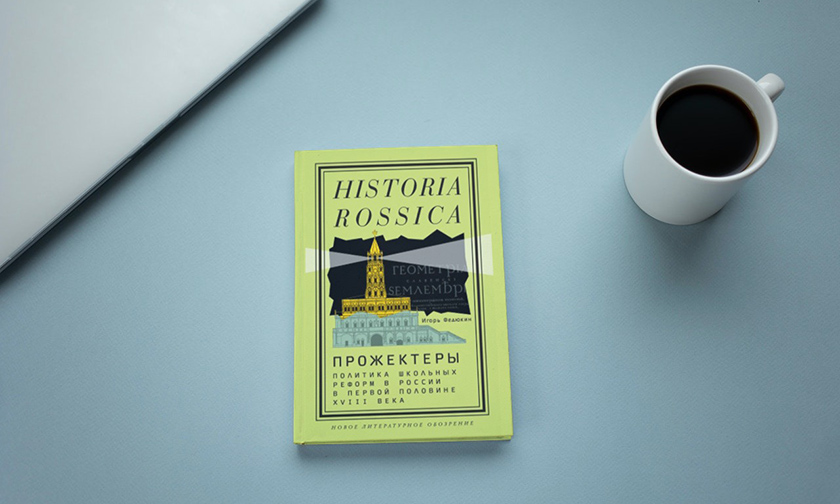
Яркие эксперименты — постсоветские. С одной стороны — монументальная, железобетонная, неподвижная, мертвая школа. С чудовищными учебниками, особенно по гуманитарным дисциплинам. С другой стороны — вокруг советского, монолитного школьного образования выстроена вариативная сеть Дворцов пионеров, которые есть в большинстве городов.
В школу дети шли по месту прописки, друзей там они не выбирали, их навязывал район. А во Дворце пионеров они встречали тех, кто выбрал их путь, их интерес, с которыми можно общаться неформально. И программа не железобетонная, а вариативная, вольная.
Я сам выпускник Московского городского дворца пионеров. И мы читали, слушали, обсуждали, ругались. Пластинку Тухманова «На волнах моей памяти» с прекрасными стихами, взятыми за основу для современных песен.
Поздняя советская власть была довольно странная. Она, с одной стороны, начала афганскую войну. А с другой — верила в какие-то слова и вдруг открывала форточку, если находились нужные. Было найдено слово «педагог-новатор».
И в этой железобетонной, тотально контролируемой, простреливаемой насквозь системе вдруг появились люди, которым власть позволяла ставить педагогические эксперименты.
Все знают имя Сухомлинского (Василий Сухомлинский (1918–1970) — знаменитый советский педагог-гуманист, новатор в образовании). Помимо этого — [Игорь] Иванов, Шалва Амонашвили. Я сейчас не буду перечислять имена этих учителей. Они приобретают всесоюзную известность. И вдруг оказывается, что педагогика и сотрудничество, педагогика гуманизации, педагогика вариативности, педагогика свободы в замкнутом советском пространстве сформировалась.
1986 год, перестройка. Учителя-новаторы принимают Манифест педагогики и сотрудничества. И она вдруг оказывается ключом к будущему успеху. Но ведь она сформировалась в самые застойные, безнадежные, бесперспективные годы.
Пока гуманитарная интеллигенция сидела по кухням и обсуждала, как все плохо, педагоги, поскольку они так устроены — могут реализоваться только в школе — собирали другую платформу. И эта платформа была предъявлена. На излете завершающегося периода истории формировалось будущее. И это, конечно, колоссальное достижение.
1986 год — ключ к последующим серьезным успехам. Создали новый университет. Если бы не было подготовки внутренней, за такие короткие сроки ничего бы не возникло. Никакие деньги — а их все равно не было — не помогли бы. И дальше началось бюрократическое опутывание. Хотя были яркие взлеты.
Например, депутат-коммунист Филиппов вдруг стал очень хорошим министром образования. Он поднялся над идеологией, практикой своей партии. Сейчас он ректор РУДН. Но мне кажется, что его масштаб шире, чем ректорский.
Но теперь про плохое. Советская, русская, постсоветская система образования подчинялись закону маятника. Реформы — контрреформы — реформы — контрреформы. При этом маятник шел широко, сносил все фигуры, которые стояли на доске перед ним.
А развитие предполагает не снос консервативного либеральным, не снос либерального консервативным, а развитие. Как река.
Знаете, бывают ленивые реки — они петляют. Огибают препятствия и движутся, а вода-то идет. Идея не рушится. А у нас реформы — контрреформы, прогресс — регресс.
Сейчас — очевидный процесс регресса. А ведь мир никогда не стоит на месте. Рано или поздно придут прогрессисты к власти.
Парадокс заключается в том, что пришел бы я, не дай Бог, в педагогическое образование после того периода, который мы переживаем сейчас, снес бы… Невозможно, это не реформируемо — то, что происходит.
Как быть? Здесь и сейчас в неблагополучных, неприятных условиях формировать будущее с тем, чтобы прийти с готовым, наработанным материалом. Как пришли педагоги сотрудничества в 1986 году.
— Совсем ничего не оставили бы?
— Нет, я не трогал бы школы, бедных учителей освободил бы от перегрузок. А из программных решений новой педагогической власти я не знаю, что оставлять. Что можно оставить? Железобетонный список литературы, который надо изучать в одинаковых классах по всей стране? Это маразм. Я просто не знаю некоторых дисциплин. Там не надо ничего менять. Может быть, с математикой все хорошо. Но с литературой, историей — катастрофа.
«Готовых ответов нет, пусть дети ищут их сами»
— В математике есть много треков — стандартный для всех школ, сильные программы — учебники Гейдман, Сопруновой, Петерсон, Моро. Школы с сильной математикой не идут только по основному учебнику. Всегда есть много листочков, дополнительных задач. В каких-то школах — только листочки.
Родители все это узнают перед первым классом. Есть математические олимпиады, их очень много. То есть математический трек понятен. Это та или иная группа, в которую ты можешь вписать ребенка.
Но когда смотришь на то, что происходит с английским, где в 99% школ мы сначала учимся читать, а потом фактически говорить первые слова. То есть все с ног на голову…
— В математике много сделали в последние годы. Наработки их настолько сильны и настолько управленчески крепки, что разгромить их не удается.

Фото: Анна Данилова
— И это не про мировоззрение.
— И это мировоззрение. Математики всегда были сильны, помимо самого предмета, самоорганизацией и солидарностью.
— Это верно.
— Непрерывный центр математического образования, запущенный [математиком Владимиром] Арнольдом и управляемый вполне успешно после него. Иван Ященко, который много делал для математически одаренных детей и их развития. Академик [Алексей] Семенов, который предлагал математику объявить национальной идеей. И много чего сделал для цифровизации, в том числе и гуманитарной, но прежде всего математической модели.
Физики ярко работают в современной школе, не только на физическом материале, но и за пределами своей дисциплины. Например, Александр Адамский, институт образовательной политики «Эврика» — это физик, и физики за ним стоят очень мощные и крупные, крепкие. А с гуманитарными не складывается, потому что бесконечная борьба концептов…
— Меня сейчас математики, наверное, не поддержат. Там сложные задачи. А все гуманитарные дисциплины — история, философия, литература — это уже во многом про трактовки, про взгляды. Нельзя сказать, консервативная у нас математическая программа или либеральная.
— Конечно, можно. Либеральная вряд ли. Просто математика не про идеологию, к счастью. А консервативная или прогрессивная — вполне себе.
— Ну да.
— В чем единственное отличие?
Консервативная программа учит тебя двигаться к готовому предусмотренному ответу. А прогрессивная учит искать.
И, может быть, находить решение лучше, чем у учителя.
И точно так же гуманитарные дисциплины учат не трактовкам, а тому, что итоговых ответов не бывает. Есть ядро смысла, до которого можно докопаться. Но периферия абсолютно открыта. И ты никогда не можешь сказать, когда произведение закончилось.
Я приведу мой любимый пример. Александр Пушкин, «Борис Годунов». Пьеса заканчивается в рукописи 1825 года: «Слава царю Димитрию Иоанновичу». А в издании 1831-го заканчивается словами: «Народ безмолвствует». Это два произведения. В одном есть все народные сцены, но народ приветствует нового царя. В другом не все народные сцены, но народ безмолвствует — то есть в нем пробуждается нравственное чувство.
И какой текст выбрать? Рукописи, где это переделано, нет. Есть последнее и первое издание. Это два разных по идеологии, по оценкам, по развороту произведения. Народ неизменен, и всегда будет такой. Народ изменчив, и будет иным. Которое выбираем? Мы выбираем оба.
Студентам и школьникам я часто показываю одну известную картину Ильи Репина. И делаю ее в двух вариантах, абсолютно одинаковых. И спрашиваю: «Это одно произведение или два?» Мне говорят: «Одно». Я отвечаю: «Правда». На ответ: «Два», — говорю: «Тоже правда». Почему?

Илья Репин, «Перед исповедью» (1879–1885)
При жизни Репина эта картина называлась «Перед исповедью». После смерти Репина ее назвали «Отказ от исповеди».
Как только ты называешь картину «Перед исповедью», композиционно ее центр — крест, протянутый священником — простеньким, но не злобным, совершенно ясно, что добродушным, — заключенному, в лице которого проступает смятение, разочарование, надежда, смесь чувств. Но точно не презрение.
Как только ты называешь это «Отказ от исповеди», в центре композиции оказывается черный провал между крестом и лицом. В лице проступает ненависть, презрение, потому что разве может этот священник понять глубокого юношу, видимо, революционного борца? Ты поменял только название! Как быть?
Или, например, замечательная картина Яна Вермеера «Девушка с письмом». Девушка стоит у окна, читает письмо. Эта картина про разлуку, про чувства, скорее всего, это муж пишет письмо, он уехал либо на войну, либо по торговым делам, они когда-нибудь встретятся. Такая сдержанная картина.
Ее расчистили в пандемию, в 2021 году. И оказалось, что на полотне замазан амур, протягивающий пухлую ручку к завесе, чтобы ее поскорее задернуть. И понятно, что это картина про предстоящее любовное свидание.

Ян Вермеер, «Девушка, читающая письмо у открытого окна» (1657–1659) до и после реставрации
Что мы будем делать в итоге? Ну, с Репиным ладно — вернемся к его названию. А в случае с Вермеером мы оставляем обе версии картины, потому что одна осталась навсегда с человечеством. А другая — то, что задумано автором. И они теперь будут жить рядом. Мы умножаем содержание, а не сокращаем его.
Школа в литературе и мировой художественной культуре должна учить тому, что нет итоговых ответов. И это счастье.
А история должна учить тому, что есть события и позиции. И есть такая позиция, такая, такая — к какой ты присоединишься и почему. Но она же превращена в идеологическую матрицу, эта история в несчастной нашей школе. Это — суррогат идеологии. И это менять придется.
Повторюсь, история на месте не стоит. Хотелось бы, чтобы маятник не снес все полезное, что есть в современной школе. А это живой опыт учителей. Его трогать нельзя. Учителя давать в обиду не надо.
Сильные школы в СССР и России
— Моя бабушка закончила школу в селе Илек на Урале, под Оренбургом. Обычная сельская школа. После нее бабушка как золотая медалистка поступила в МГУ на филологический факультет, на русское отделение. И была одной из лучших студенток. Всегда говорили: «Какая же светлая голова». И очень хвалили. То есть она была одного уровня с теми, кто жил в Москве, учился у лучших учителей, уехавших из Ленинграда в эмиграцию. Между ними не было разрыва. Это потому, что все в СССР было полностью унифицировано?
— Во-первых, потому что ваша бабушка была талантливая. Это главное условие. В каком году она закончила?
— В 1945-м.
— В 1945-м, то есть до ФЗУ (фабрично-заводских училищ). До ремесленного разворота послевоенного, на излете бесконтрольной вольницы, которая во время войны всегда возникает.
Потом был сталинский период фабрично-заводской. И, конечно, никакого интеллектуального пиршества. А потом хрущевский, когда началась НТР (научно-техническая революция). Жизнь туда разворачивала.
Я почему поинтересовался, в каком году закончила — от этого много что зависит. Война — трагедия, но во время войны контроль за школой снижается. Не унификация, а дали развиться таланту.
— У нее не было какого-то суперталанта. Она была хорошим редактором, хорошим филологом.
— Светлая голова.
Школа либо стандартизирует, либо развивает индивидуальное дарование. И там, и там есть издержки.
Потому что школа, вообще-то говоря, для всех. Поэтому если она делает ставку на одаренных, возникает проблема — а что с остальными? Что этим-то делать? Нет хорошего ответа.
Поздняя советская система придумала модель спецшкол, в которых детям давали другого уровня языковое образование. Также были математические школы, например, 2-я московская. В любом другом городе можно найти свои примеры.
Не было единой советской модели. Если бы ваша бабушка училась в 1949–1953-м, кто знает, подготовили бы ее к университету или наоборот.
— Когда я училась в школе, — 1988–1998 годы, — чтобы поступить в МГУ, надо было не вставать весь 10–11-й класс. Курсы, репетиторы и ты зеленого цвета. Сейчас мы пришли к тому, что дети уже в четвертом классе зеленого цвета — они поступают в хорошую школу и потом претендуют на 10 бюджетных мест вместо 150. Это сложный путь.
— Я резко против. Мне кажется, конкуренция должна включаться в университете. Через систему рейтингования, систему бюджетных льгот. Кто-то платит 85%, кто-то 50%. И люди борются за место в рейтинге. И это правильно.
— Это не приводит к выгоранию?
— Если это в университете начинается, то нет. Если это начинается в школе, то не дай Бог. Школа вообще-то не для того, чтобы получить готовые компетенции. Школа для того, чтобы развить личность.
— Как поступить в сильную школу, в пятый класс?
— Я с вами совершенно согласен, что эта модель неприемлема. Это неприемлемая модель. Все.
— Можно ли придумать более сложную страну, чем Советский Союз 1945 года условно, да? В котором ты мог из деревни поступить в МГУ…
— С 1941 по 1947 годы — да. С 1947-го…
—…уже нет.
— Скорее всего, нет. В 1953 году — нет. А потом опять — да. Нет никакой единой советской модели.

Фото: Анна Данилова
— Каждый родитель хочет, чтобы дети могли просто спокойно учиться. Без гонки поступления в селективную школу, вне которой у тебя будет очень простая программа, не гарантирующая поступления. А потом так же спокойно учиться в вузе. Как это сделано во многих европейских странах.
— Как во Франции, например, было сделано. Когда за исключением École normale supérieure, то есть Высшей нормальной школы, университеты принимают почти всех.
— А школы при этом, насколько я понимаю, сильно унифицированы?
— Школы унифицированы — это тоже вопрос бывшей империи, да? Это страна, которая помнит о своем имперском прошлом. Но она понимает, что империей больше никогда не будет. И хочет играть роль в мире на другом поле конкуренции.
И да, французский университет, наверное, не самый сильный в мире. Но вопрос о справедливости поступления — вы рассылаете свою школьную документацию по разным университетам, берут всех. А потом отсев.
В университете, повторюсь, конкуренция — вещь нормальная. Она учит нас жесткой профессиональной жизни. Но и солидарности учит, потому что мы друг другу помогаем в этой гонке прорваться сквозь барьеры.
Что Александр Архангельский сказал бы выпускникам
— Есть такой прекрасный жанр — обращение к выпускникам, речь, которая произносится во всех больших вузах. Важные слова, которые хочется сказать своим выпускникам, заканчивая их учить. О чем сейчас вы бы хотели сказать тем студентам, тем молодым людям, которые выходят из вузов в жизнь? Не учатся у вас, но вас очень слушают?
— Во-первых, я бы сказал: постарайтесь себя сберечь. Не сгорите. Во всех смыслах.
Жизнь дольше, чем кажется. И сложнее, чем хочется.
Вы — профессионалы, но от вас будут требовать не только профессиональных навыков.
Постарайтесь ничего, кроме профессиональных навыков, работодателю и государству не отдавать.
Семья, близкие, друзья важнее, чем политические партии. Но и политические партии важны.
И в конечном счете вам придется расхлебывать то, что мы заварили. Простите нас.
— Спасибо.
— Спасибо вам.




