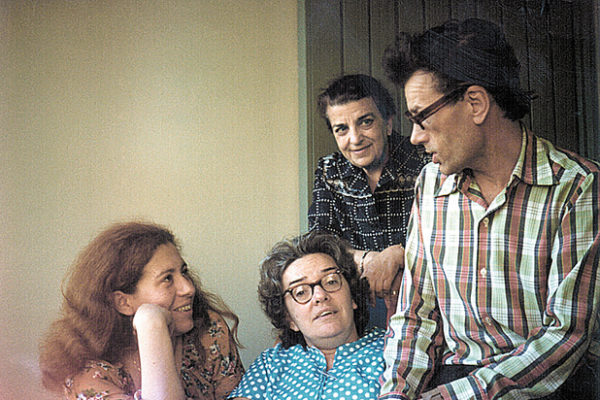— Мне страшно не нравится фраза о том, что «в России нужно жить долго». Но обычно кивают как раз в вашу сторону: вот Алексеева своими глазами увидела перемены.
— Мне страшно не нравится фраза о том, что «в России нужно жить долго». Но обычно кивают как раз в вашу сторону: вот Алексеева своими глазами увидела перемены.
— А потом перемены эти как будто сдали обратно свои позиции. Вы про это?
— Совершенно верно. Получается, что жить-то надо долго, но не слишком заживаться. Иначе увидишь, как все хорошее заканчивается и становится более-менее тем, чем было.
— Ой, ну России и вообще в мире разрушить что-нибудь легко до чрезвычайности! На строительство же чего-то хорошего требуется много сил, времени и, главное, терпения. Так что жить надо долго, Катя! Если б я не жила долго, я бы, наверное, была пессимисткой. А я оптимистка. Я даже в откатах к старому вижу перемены к лучшему.
— Приведите пример.
— Вот я двадцать пять лет прожила при сталинском тоталитаризме. Сейчас часто говорят и вы, наверное, тоже так говорите: все вроде как возвращается на тот же круг. Да, на тот же. Но куда им до Сталина! Кишка тонка. Вы этого оценить не можете, вы при Сталине не жили. А я, прожив долго, в том числе почти четверть века при Сталине, вижу, как медленно, мучительно, с возвращениями назад, но движемся-то мы в лучшую сторону. Сейчас лучше не только чем при Сталине, но даже чем при Брежневе: тогда за правозащитную деятельность давали семь лет лагеря и пять лет ссылки без права возвращения в Москву или Питер. А сейчас: ну что они сделают? Ну агентом объявят, ну, жизнь испортят. Но они уже не смогут нас так изводить, как раньше. Меня, конечно, поражает еще, что хоть мы и иностранные агенты и такие-сякие, но президент приходит поздравлять меня. И относится, представьте себе, даже с теплотой.
— Вы прямо почувствовали его теплоту? Он не похож на человека с эмоциями.
— Знаете что, Катя, у меня есть подозрение, что я ему напоминаю его бабушку. Иначе не могу объяснить себе, почему мне прощается и то, что я не разделяю идей про «крымнаш», и то, что я говорю прямо об этом, и то, что я вообще много чего не разделяю. И никогда себя не сдерживаю в том, чтобы высказываться без обиняков о том, с чем не согласна, говорить так, как я думаю. Но мне это, можно сказать, сходит с рук. Меня слушают. И даже — приходят поздравлять, чествуют, оказывают какие-то знаки. Я, правда, признаюсь, сама в этот раз попросила: «Ради бога, чтобы мне в этот юбилей (речь о 20 июля 2017 года, когда Алексеевой исполнилось 90 лет — Правмир) не было ордена как положено. А то за орденом придется ехать в Кремль, а мне трудно. Пусть лучше президент вместо этого поздравит меня по телефону 2-3 минуты».
— Зачем вам это надо было?
— Ему хотелось меня поздравить.
— А вам зачем?
— А мне очень надо было лично его попросить: «Помилуйте Изместьева». Знаете, я не политик, я правозащитник, я не смотрю, кто там лучше, кто там хуже и не выбираю, с кем мне говорить, а от каких разговоров отказываться. С любыми буду говорить. И я уверена: чем хуже режим, тем больше нужна наша работа. Тут уж вы меня не переубедите.
— Да я не пытаюсь. Но, исходя из масштабов вашей жизни, мне кажется очевидным, что цель, к которой вы стремились — соблюдение гражданских свобод, отсутствие наказаний за инакомыслие, невозможность самого факта существования в стране политзаключенных — была практически достигнута в какой-то момент. А сейчас мы опять говорим о политзаключенных, преследованиях инакомыслящих, мощнейшей цензуре и общей несвободе.
— Когда мы начинали свою правозащитную деятельность так называемую, то придумали один тост: поднимали рюмку со словами: «Выпьем за наше безнадежное дело!». Пили, конечно, иронично, но это было правдой: вся моя жизнь к этому моменту приходилась на советское время и о том, что это советское время при моей жизни может кончиться, не было даже никаких мыслей. Да и, откровенно говоря, не было никакой такой цели, про которую мы бы думали: вот, этого надо достичь. Я не считала, что мы вообще хоть чего-нибудь достигнем.
— Не считали, что можете или не хотели чего-то конкретного?
— Что значит «не хотела»? Хотела, но знала, что не могу. А идея у меня была, вообще говоря, такая: хочу про себя знать, что я живу так, как считаю нужным. И чтоб мои дети и те, кто меня любит, знали, что я живу по совести. Всё.
— Страшновато было?
— Сначала — да. Я очень ареста боялась. Потому что я с мужем разошлась, у меня было двое детей. Расходясь, я сказала мужу, что буду сыновьям и папой, и мамой, они получат образование и всё будет у них нормально. И вот я все время думала: а что же будет, если меня арестуют? Это же, значит, не только я сама в лагере окажусь, но и им не дадут поступить в университет, выгонят из Москвы, вся их жизнь нафиг полетит. Это меня очень смущало. Как быть? Я думала-думала и придумала.
— Что?
— Да все просто очень! Я подумала, что мои дети состоят не из одного желудка. Им надо знать, что их мама — честный человек. Вот и всё.
— Этого оказалось действительно достаточно?
— Моя подруга американская как-то спросила моего младшего сына, как ему вообще это было: жизнь с матерью, которой все время что-то надо, которая куда-то бежит вечно, едет, борется. Он уже профессор, дедушка (так что я прабабушка), подумал и ответил ей: «Нам совершенно не плохо было. Мы ориентировались друг на друга, а мама… А чего? Мама правильно жила». О! Правильно, значит. «Здорово», — думаю я. И я довольна.
— Это тот который Михаил, Майкл? Он живет в Америке, так?
— Да. Знаете, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.
Это только я сюда [после эмиграции с 1977 по 1989 год] вернулась, это мне здесь надо, в этой стране. А мои дети — нормальные дети, они там и остались. Всё правильно. Каждый должен жить там, где он хочет.
Миша сейчас совсем уже седой, мы с ним по телефону раз в неделю обязательно разговариваем, в субботу-воскресенье он звонит. Он преподает в университете экономику. Очень любит свое дело: и экономику, и преподавать.
— Он — уже совсем американец?
— Он уехал в 23 года, а теперь ему 67. Кто он? Черт знает. Я его спрашиваю: «Ты по-каковски думаешь? По-русски или по-английски?». Отвечает: «Когда про тебя — по-русски. А когда про экономику — по-английски». И я ему: «Знаешь, я очень за вас рада. Вы живете там, где хотите, заняты тем, чем считаете нужным». А он говорит: «Нет, мама, дети должны в жизни достигать большего, чем родители. Тебя во всем мире знают. А я чего? Профессор экономики». Во как! То есть он считает, что он не дотянул до мамы. Это мне, конечно, досадно слышать.
По чести говоря, вот уж чего я, начиная всю эту заварушку не ждала, так это того, что будет известность и президент поздравлять меня будет приходить, и вообще. Почему это все? Необъяснимо. Я ведь даже не сидела, я не пострадала как другие. Несправедливость в этом есть какая-то.
— Когда к вам стала приходить известность?
— Это в эмиграции началось. Я, если честно, не очень хотела этой эмиграции, но там как-то все закрутилось, сын младший мой тоже очень деятельное участие в этом принимал. А я все думала: вот чего я там, в этой эмиграции, делать буду? Кому я там нужна? При этом выехала я из СССР как зарубежный представитель Московской Хельсинкской группы. И, надо сказать честно, эмиграция эта в итоге была для становления моей личности очень полезной — но это я теперь понимаю. До отъезда я вообще как-то про эти дела мало думала: личность я там или не личность, на весь я мир вещаю или только на часть — неинтересно было. Потому что передо мной всегда были Лара Богораз и Юра Орлов. И я ощущала себя при них — искренне и без всякой там обиды или задней мысли — рабочей лошадкой. Да-да, вот я рабочая лошадка, я буду делать всё, что они считают нужным, и всё будет хорошо. Я так ими восхищалась, так их ценила, так доверяла и доверялась им, что ни о каком моем выпячивании или даже просто — самостоятельности — речи не шло. А тут — бах! Сама. Из эмиграции-то особенно не позвонишь, совета как быть — не спросишь. Письма идут по три месяца. Хочешь не хочешь, надо действовать самостоятельно. И вот я там научилась этому — брать на себя ответственность, отвечать за слова, ну как-то выросла что ли.
— Каким образом?
— Ну а как? Я — представитель Московской Хельсинкской группы, я обязана! Вот я и лезу всюду. Группа иногда довольна, иногда ругают меня, потому что они, сидя «здесь», не понимают, что я делаю «там». Но я потихоньку научилась даже отвечать, даже защищать свое мнение. Допустим, они мне говорят: «Вот, там у тебя слишком политизировано получилось». А я им говорю: «Это вам отсюда кажется. Никакой политики». Да и не интересовала меня политика никогда.
— Как можно заниматься правозащитой, общественной деятельностью, гражданским активизмом, не увязая в политике?
— А я вам сейчас объясню! Как-то у меня с Сережей Ковалевым в «Мемориале» при стечении народу возникла полемика. Он говорит: «При этом ужасном режиме — значит, при нынешнем, — ничего нельзя сделать, всё бесполезно. Надо режим менять, иначе…». А я ему говорю «Знаешь, Сережа, я с тобой согласна, режим надо менять. Но ты вот и занимайся этим. Я тебе желаю успеха. Но я на это ни сил, ни времени тратить не буду. Пока вы смените режим, это еще сколько пройдет! А люди сейчас мучаются от этого режима и жизнь их коротка. Им надо прожить ее так, как им хочется. И если их давит каток, надо помочь им выбраться. И я буду этим заниматься».
 — То есть, не каток сломать, чтобы всех не передавил, а конкретного, уже попавшего под каток, человека попробовать вытащить?
— То есть, не каток сломать, чтобы всех не передавил, а конкретного, уже попавшего под каток, человека попробовать вытащить?
— Ага, идея такая. Ну не могу я любить человечество и не любить отдельных людей. Конечно, я человечество очень даже люблю и уважаю, но это такая же абстрактная идея, как свержение режима.
— Это как в апокрифичной истории, когда Елена Боннэр напомнила Наталии Солженицыной о том, что по утрам она варит кашу своим, совершенно конкретным, детям, а не всему русскому народу. Дескать, это — конкретно, а остальное — абстракция.
— Женщины часто лучше управляются с простыми вещами и таким образом решают сложные задачи, кстати.
— Может, дело в том, что очевидную ежесекундную помощь тому, кто прямо сейчас нуждается — чаще выбирают женщины, а путь большой борьбы со вселенским злом — мужчины?
— Не знаю. Не думаю. Никогда в таком контексте об этом не размышляла. Но, знаете что, я никогда не жалела, что была женщиной. Мне нравится! Знаете, почему?
— Почему?
— Я как-то у нас в Московской Хельсинкской группе на 8 Марта, когда мы все вместе отмечали, такой тост сказала: «Мне нравится быть женщиной, потому что я совершенно точно знаю, что мои дети — это мои дети. И никто меня не обманет!»
— Материнство свое вы воспринимали как привилегию или как обязанность?
— Вы знаете, я в детстве всегда говорил: «Когда я выйду замуж, у меня будет пятеро детей». Почему-то я так решила: «Пятеро». Потом подросла, огляделась вокруг хорошенько: соображаю, что мама у меня — кандидат физико-математических наук, не тетка какая-то, которую из деревни позовешь с детьми сидеть, понятно? Тогда я подумала: «Ну какие пять?! Трое!»
— Из чего вы исходили в своих расчетах?
— Из того, что каждый ребенок — это 5 лет жизни. Никакая нянька или домработница маму не заменит. Пока ребенку пять лет не исполнится, ты привязана. Счастье, если бабушка рядом. Но так бывает редко в нашем кругу.
— Я читала, что рождение детей позволило вам отключиться от переживаний, связанных с осознанием тяжелой политической и общественной ситуации, страха и безысходности конца сороковых-начала пятидесятых.
— В какой-то степени, Катя, я себя уговаривала, что это так. Еще я себя убеждала в том, что это очень почётно — растить детей. Но это все, конечно, иллюзии. Я — работающая женщина в третьем поколении. Это сейчас как будто бы не исключение, но я все-таки родилась в 1927-м году. Тогда женщины не работали и не очень стремились! Но моя бабушка работала кассиром, поскольку муж умер, а на ней было трое детей. Мама моя тоже работала всю жизнь: была сперва учительницей, а потом — научным работником. Она просто-таки была влюблена в свою математику. Хотя, думаю, математика не была для нее важнее меня, она была хорошая мама. Но я — нет. Конечно, когда я сидела с детьми дома, я теоретически хорошо себе объясняла, что все это очень важно, очень интересно и вполне достаточно для счастливой жизни. Но это неправда. И пока не было у меня работы, — был такой период, целых полтора года — я, знаете, как плакала?
— Такой темперамент: нужно работать, работать хочется. Я так страдала, пока у меня только один сын был, что подумала: «Кончатся все эти мои страдания тем, что будет мой Сережа расти один, как я росла». А ничего хорошего в этом нет! В общем, когда Сереже было пять с половиной лет, родился у него братик Миша. А если бы я поменьше рефлексировала и была порасторопнее, можно было бы один за другим и троих родить. Но это я теперь так думаю.
— Вы говорите, что ваша мама была хорошей матерью. Что это значит?
— Она была совсем на меня не похожа. Она была очень интроверт. Не умела вот это все: лизаться или какие-нибудь там тюти-мюти, понимаете? Я, кажется, вообще не помню, чтобы мы обнимались. Пока я была маленькая, мы, только переехали из Евпатории и жили в Останкино, в бараке таком двухэтажном. Сейчас смешно сказать — это была 3-я Новоостанкинская улица, где теперь гостиница «Космос», но тогда — совсем задворки. До трамвая пешком двадцать минут, а потом на трамвае до города — еще сорок минут. И, когда родители утром уходили, мы говорили: «Мама уехала в город». В город! Вот что, кстати, Катя, значит долго жить! Теперь это чуть ли не центр.
— А перед уходом на работу мама вас целовала, например?
— Нет. Нет помню. Скорее, нет. Тогда они работали пятидневку. В воскресенье — дома были. У нас были две комнаты, одна проходная. В проходной жили мы с бабушкой, в задней — папа с мамой. Хорошо помню, как я забегу в их комнату: мама сидит там чего-то делает со своими дифференциальными уравнениями. Я залезу к ней на колени: «Мамочка!» А она: «Ой, не дави меня. Ой!» Она не умела переносить вот этот телесный контакт. Но она меня любила. Знаете, Катя, я помню, как в эвакуации мы с мамой вместе ходили в один коммерческий магазин. Надо было вдвоем идти, потому что все, что там давали, давали только «в одни руки», — так тогда говорили. Вот, мы настоимся на морозе, получим эту колбасу, принесем домой, мама отрежет мне первый кусок, я его тут же жадно — в рот. Потом отрежет себе кусок вдесятеро меньше. И он все лежит на тарелке: «Ешь, ешь», — она мне говорит. «Мам? А ты?» — «Я уже наелась, спасибо». Понимаете?
А еще один раз она шла домой, хлеб несла, черный такой, очень страшный. И какой-то мальчишка-ремесленник подлетел к ней и начал отнимать эту авоську с хлебом. И она с ним подралась. Это в Ижевске было. Она с ним дралась и хлеб этот свой страшный отбила. А потом пришла домой и плачет: «Он же голодный был. Я бы ему отдала, если бы это только мой был хлеб. Но там и ваше было». А мы тогда с ее сестрой и тамошними родственниками жили. Вот, она такой человек была, хороший. Помогала всем. Хотя и не от мира сего: вечно со своими уравнениями в голове.
— Что происходило у вас дома, когда кругом шли аресты времен Большого террора? Вы видели, чувствовали, что что-то не так или родителям удавалось вас беречь?
— Вы не понимаете, что значит сталинское время. Для этого жить надо в это время. Это ужас. И вот чего я точно знаю, что это время — оно уже совершенно точно не вернется. Я вам про себя расскажу — мы ведь не пострадали никаким образом в Большом терроре. Можно даже сказать — наоборот. Когда мне было 10 лет, то есть в 37-м, все начальство в Центросюзе, где мой отец работал референтом у какого-то майора, арестовали и расстреляли, а дом начальства этого Центросоюзовского был в Николо-Щипковском переулке. И, стало быть, освободились площади. И отцу вместо останкинского барака дали две комнаты в трехккомнатной квартире начальника, которого арестовали и расстреляли. А его жену и дочку из трех комнат переселили в одну комнату. Так мы стали столичными жителями. Жуть же?
Я думаю, уверена, что мои родители весь этот ужас понимали. И друг с другом говорили. Но мне и бабушке никогда ни одного слова. Почему я так думаю? Совсем недавно, уже старой женщиной я вспомнила: у отца над столом письменным висел портрет Ленина, а не Сталина. По тем временам — фронда. И у меня в комнате родители не повесили ни единого портрета кудрявого там Сталина или чего-нибудь такого. Ничего. Но и говорить ничего не стали. Думаю, чтобы защитить.
А потом это повторилось, но уже наоборот. Когда я выросла и стала тем, кем стала, мать моя была членом КПСС, взносы платила, общественной работой занималась, всё как положено. И я все думала: мать не должна знать, чем я занимаюсь, она будет бояться, это разрушит ее мир, за это ведь арестовывают и все такое. Надо, в общем, все делать по секрету.
И ничего, конечно, дома не рассказывала и виду не подавала. Но вот когда создали Московскую Хельсинкскую группу и я туда вошла, кто-то из знакомых моих говорит: «Представляешь, по Би-би-си передавали, у нас какую-то группу создали». Я так перепугалась: у матери же есть приемник, сейчас она все поймет.
— Откуда у мамы вашей в те годы такой приемник?
— Дело в том, что она, вместе с десятью другими математиками, написала задачник для студентов технических вузов по математике. И этот задачник переводили не только в странах соцлагеря, но во всякой Бразилии и Аргентине. И деньги за них капали на сертификаты, которые можно было отоварить в «Березке». Мать обычно мне отдавала эти сертификаты, она была равнодуша к шмотью. А я накупила всякой ерунды: китайский зонтик, духи. Но какие-то сертификаты мать зажала и купила себе приемничек, по которому можно было слушать вражеские голоса. И она слушала! И вот я перепугалась, что она услышит все про меня. Спрашиваю у своих: «А что говорили про группу-то? Сказали, кто вошел?» — «Да, вроде говорили, что Григоренко, Боннэр и Гинзбург». Короче, слава Богу, меня не назвали. А кто я такая была? Рабочая лошадка. И я выдохнула: «Мама не знает».
— Но она же узнала в итоге?
— Я не помню, как она узнала. Но она мне говорит: «Люда, мне сказали, что вот такое дело, ты в такой-то группе». Я: «Мам, ты извини, я просто не хотела тебе говорить, потому что ты член партии, тебя будут вызывать. Лучше будет, если ты ничего не знаешь».
Слышу, как она ночью ворочается, не спит, думает. Утром сын ушел в школу, муж мой на работу, мы остались с ней вдвоем. И она мне говорит: «Люда, ты знаешь, я подумала. Ты права. Лучше давай, как будто я ничего не знаю». И так у нас было дальше: я ничего не рассказываю, она ничего не знает.
— Невероятно.
— Дальше было совсем невероятно. Но сперва нужно рассказать про квартирный вопрос. Ведь мама моя в обычной жизни жила не с нами, а одна. Около Бауманского института, в котором преподавала. У нее была плохая, но изолированная однокомнатная квартира. Мой старший сын тоже учился в этом Бауманском. Когда бывала сессия, он уходил из дому, где был младший ребенок, гвалт и шум, селился у бабушки. И с друзьями там готовился к экзаменам. Мама моя перебиралась на это время ко мне. А мы жили в «хрущевке» такой, знаете, где стены как из папиросной бумаги. Мама с моим младшим сыном в одной комнате, мы с мужем — в другой.
— Прямо как в вашем детстве: все повторяется.
— Да-да, вот этот импринт, наверное, меня так мобилизовал, что я решила освоить профессию маклера. И научилась обменивать квартиры, чем страшно горжусь.
— Вы — маклер?
— Ага. Денег у нас не было совершенно. Но я была не глупой. Уж точно не дурнее их! Я ходила, смотрела-смотрела, как эти маклеры действуют и научилась. Вначале обменяла две наши комнаты в очень хорошей коммунальной квартире со стервозными соседками на отдельную квартиру вот в этой «хрущевке» поганой. Отдохнула годик. А потом обменяла эту жалкую «хрущевку» в трех троллейбусных остановках от метро «Войковская» на изолированную квартиру в 16-этажном доме около метро «Университет». Тут уже мы собрались уезжать, и я решила последний раз тряхнуть своим умением обменивать квартиры, потому что у мамы была очень плохая квартира возле Бауманского института и я решила оставить ей свою шикарную двухкомнатную на Арбате. Младший сын уезжал со мной, а старший женился и ему тоже надо было квартиру. Тогда я обменяла мамину поганую однокомнатную на двухкомнатную для старшего сына в районе «Аэропорта», а маме, значит, как я и планировала, оставалась моя квартира. Но последние месяцы перед отъездом она жила с нами, потому что ее квартира уже ушла, а наша от нас — еще не освободилась. Сейчас я подхожу к «невероятной» истории: вот, значит, у меня в доме пресс-конференция Московской Хельсинкской группы. Журналисты, все, сами понимаете — в моей большой комнате. А мама сидит у себя в комнате и ничего не знает. Пресс-конференция заканчивается, журналисты уходят. Мама примерно через час берет свой приемник, настраивает и выясняет, что, собственно, только что происходило у нее в доме.
— Она успела сказать, что гордится вами?
— Мне рассказывали, что она говорила людям — я сама этого не слышала, потом рассказывали, когда я вернулась — «Моя дочь — Людмила Алексеева, зарубежный представитель Московской Хельсинкской группы». Вы понимаете? То есть, она всё знала. И она считала, что я правильно живу. Она меня не осуждала. Просто не говорила об этом мне лично. Такой человек.
— Насколько реально было прожить жизнь в СССР, не вступая ни в какие отношения с советской властью.
— Не знаю. В моей жизни все было: и в партию я вступила, когда верила во все это. А потом, в 1968-м меня и из партии выперли, и с работы за все это.
— Вы искренне вступали в партию или из каких-то бытовых, карьерных соображений?
— Искренне, конечно. Я была очень правильным советским ребенком: пионеркой, комсомолкой. Ну там как положено, горячо любила Родину, считая партию и все эти идеологические штуки неотделимой частью этой любви. Я очень тяжело переживала, что не вышла возрастом быть на фронте по время войны. Где-то после войны меня стали грызть сомнения всякие. Но это не было сформулированным откровением или пониманием. Но я все время об этом думала, я очень много читала, разговаривала с теми, кто, как мне казалось, мог больше знать или понимать.
Мне, конечно, очень повезло с тем, что у меня было с кем разговаривать, вокруг меня были довольно бесстрашные и беспримерно честные люди. В 1952-м году я вступила в партию, думая, что как-то изнутри можно поменять что-то, что «не так», что мешает нашей стране быть как в песне «самой лучшей и самой счастливой». Уже после смерти Сталина на многое мне открылись глаза и многие сомнения уже лучше в моей голове были как-то сформулированы. Я не могу вам точную дату назвать полной перемены своих взглядов, но могу сказать, что я себе — тут очень важно, что себе, потому что на публику ты можешь как угодно меняться, а себе не соврешь — так вот, я себе не врала никогда. Да и не молчала я никогда. Выходит, что я была сперва очень честная советская.
А потом стала очень честная антисоветская, правозащитная. И это не стыдно про такое рассказывать. Люди, которые думают, часто меняются. Никто не рождается с идеальной гражданской позицией или единственным правильным взглядом на жизнь. Но еще раз скажу: мне повезло, были рядом люди, глядя на которых, рядом с которыми можно было становиться лучше.
— Задумались ли вы хотя бы на секунду о том, что выбрали не тот путь, когда в 1968-м году за ваши правозащитные убеждения вас исключили из КПСС, а потом уволили с работы?
— Был такой эпизод во всей этой истории увольнений и исключений. Моя университетская подруга Наташа, мужа которой тоже выгнали из партии в то же самое время, а другого нашего друга выгнали из Института искусствознания Академии наук (хорошее такое, либеральное вроде бы было место), говорит: «Надо подавать в суд за то, что незаконно выгнали!». И они решили подавать. И мне говорят: «Ты, Людка, тоже должна подать». А я: «Да ну, не хочу я. Выгнали, и слава богу. Нафиг они мне нужны?» — «Но мы же сами хотим, чтобы всё по закону? Все это неправильно, значит, надо бороться!». И тут я заколебалась. Потому что, с одной стороны, мне не хочется, а, с другой стороны, я понимаю резоны. В этот момент Наташка, язык у которой был как бритва, говорит: «Людка, во будет интересно! Тебя же выгнали с работы, потому что выгнали из партии?» — «Да» — «Представь, тебя в партии восстановят, а на работе — нет». И тогда я облегченно вздохнула: «Да пошли вы нафиг! Я ни за что не подам на восстановление!» И не подала.
— Они подали. Но их, конечно, не восстановили.
— Я читала, что вы вышли замуж, «убедив себя в чувстве влюбленности». Как это? Где разница между влюбленностью и любовью?
— Знаете, я кажется, не рассказывала об этом раньше — мемуары, написанные в Америке, писались быстро, наспех, издательство гнало все время. И там важнее было про поколение рассказать, чем про себя. Я ведь из поколения шестидесятников — это очень важная и большая история. В общем, я не все писала. А на самом деле, тот брак, о котором я пишу, как о первом, он у меня — второй.
— Это как?
— В первый раз я очень сильно влюбилась, как положено, в 18 лет. Вышла замуж за 19-летнего мальчишку. Влюблена была как кошка и прожила с ним год без шести дней. И выгнала его, потому что понимала, что я люблю его гораздо больше, чем он меня, и если я не разведусь, мне придется испытать и измены, и обманы, и уход, и всё на свете. И я решила: не буду этого ждать. И я сделала усилие над собой. Но вышло у меня не сразу. Несколько раз я пыталась расстаться с ним. Говорила: «Уходи». Сама уходила. А потом он приходил и говорил: «Ну, чего ты». А сердце не камень, когда любишь. Мы опять сходились. Но все это время где-то как будто про запас, — знаете как это? — был такой Валя Алексеев. Он был меня на пять лет старше. Хороший парень. Оказывается, он полюбил меня еще когда я школьницей была, в девятом классе училась. И он решил ждать, когда я вырасту. Ну, хотя бы до 18-ти. Приходил к нам домой — а меня нет дома. Он сидел, честно чай пил с моей мамой, ждал меня. А я даже не думала, влюблен он или не влюблен. Мне не интересно было, поскольку у меня там — такая своя любовь!
И вот один раз Валя приходит: «А где Люда?». А моя мама говорит: «Валь, так Люда же замуж вышла». Но он виду не подал. И все равно продолжил ходить. Как-то мы с ним, с Алексеевым, встретились на лестнице: «Ну как ты?», — спрашивает. Говорю: «Ну, как-то так, не получается у меня брак». И он мне говорит: «Ты, Люда, пожалуйста, знай. Если ты разведешься, то одна не останешься». В общем, сделал он таким образом мне предложение. И, когда я в очередной раз решила покончить со своей любовью, я об этом помнила.
— А как можно уходить, разводиться — если так, как вы говорите, сильно влюблен?
— Я все время представляла себе, как я рожу ребенка, как буду с ним сидеть дома, несчастная влюбленная девчонка, а тот, кого я люблю, уйдет к какой-нибудь девице. Это очень тяжкая доля.
— Но ведь он тоже вас любил. Почему он должен был уйти?
— Тут такое обстоятельство, Катя. Это 1945-й год. Только что кончилась война. И мужиков с руками и ногами, а тем более 19-летних, а тем более таких красивых — их почти нет. И куда бы мы вместе не приходили, на этого моего несчастного Юрку мои же подружки при мне кидались как тигрицы. А у него глаза разбегались. Понимаете? И я понимала, что это не кончится хорошо. И я ждала этой унизительной судьбы. И боялась ее.
— Поразительная дальновидность для 18-летней девочки.
— И страшная. Но так было. Когда в очередной раз я решила, что все, пора с этим кончать, то как раз встретила Валю, который мне опять это свое предложение повторил. И я ему сказала: «Знаешь что, Валя? Я развожусь. Через месяц я готова выйти за тебя замуж».
— Почему не тут же?
— Почему месяц ждать?
— Да.
— Ну, так понятно же: надо быть уверенной, что я не беременна. Потому что, думала я, если будет ребенок, то я уж останусь. Валя, конечно, сказал «Ради бога».
— Невероятно.
— Так получилось, что, выйдя за Валентина замуж, я тут же забеременела. Родился сын. И дальше была целая трагедия с выяснениями отношений. Но я-то точно знала, что в этих обстоятельствах поступила максимально честно. Сын, к счастью, был очень похож на Валю. Однажды, когда Юрка все еще приходил, уговаривал меня сбежать, уйти, собрать вещи и все такое, была весна уже что ли: тепло. И он увидел лицо ребенка в коляске. Посмотрел и говорит: «Да, он похож на Валю, это Валин сын». Успокоился и ушел.
— Вы когда-нибудь жалели об этом своем поступке?
— Я жалела только, что разница у моих сыновей большая: пять с половиной лет. Надо было одного за другим, троих, рожать.
— Ваш темперамент — в кого? Внешне вы похожи на ту бабушку, что эстонка.
— Да, на нее. Бабушку звали Анетта-Мариэтта Розалия Яновна Синберг. Она вышла замуж за Афанасия Петровича Ефименко и стала Анной Ивановной Ефименко. Она была лютеранкой, перешла в православие. Тогда же не было ЗАГСа, надо было в церкви венчаться. Мужу ее, Афанасию Петровичу, было, все равно в какой церкви: он не верил ни в бога, ни в черта. Говорил: «Я бы мог, конечно, и в лютеранской кирхе венчаться, но у меня мама очень верующая, для нее это будет ужасно». И бабушка сказала: «Никаких проблем. Я перейду в православие». Она была решительная женщина.
— То есть, вы — в нее.
— Никогда об этом не задумывалась. Но она ведь, по сути, меня вырастила, поэтому и характер, наверное, её мне достался. Ведь, говорят, что не тот мать, кто родил, а тот, кто воспитывал, так? Мы с ней только после войны разъехались, мне уже было почти восемнадцать. А так бабушка, бабушка — это мой мир был. Наш с бабушкой. Такой — особенный. Знаете, что я хорошо помню от ее этого чистоплюйства лютеранского? То, как она относилась к стирке. Она затевала стирку в любой день, не взирая на праздники и приметы: стирала на стиральной доске в корыте, основательно установленном на кухне. Приходит соседка. «Иванна, грех какой! Что ж ты стираешь? Сегодня же праздник» — «Ой-ой-ой. Какой?» — «Вербное воскресенье» — «Ох, грех какой! Ой, сейчас!». Соседка уходит, она запирает дверь на ключ и продолжает стирать тихо, молча. Ей чистота поважнее праздников была. А дед мой ходил в церковь один раз в год, строго на Пасху.
— Почему?
— Очень любил пасхальное пение. И один его приятель, видя, как Афанасий Петрович в очередной раз идет в церковь, говорил: «Афанасий Петрович, а что это, как вас не встречу около церкви, так всё Иисусе-воскресе поют?». А дед отвечал: «Так как поют! Грех не порадоваться».
Кстати, о моих предках с другой, папиной, стороны мне тоже рассказала эта моя бабушка Анна Ивановна. Если бы не она, так и не узнала бы ничего, все остальные как-то помалкивали.
— Было о чем?
— Ну как: она тоже рассказала мне, когда я была уже, наверное, 14-летней девицей о том, что папа мой происходит из брака еврейки и поляка, представляете!
— Это где-то конец 19-го века? Как такое возможно: еврейка и поляк.
— А вот как: отец моей бабушки-еврейки, то есть, мой прадедушка, имел маленькую типографию где-то под Варшавой, такой бизнес. Книжки печатались на польском языке. Наборщиком в этой типографии служил мой польский дед Лёва. Как его звали, на самом деле, я не знаю. Но дома он был так: Лёва-поляк. Как, на самом деле, звали дочь владельца типографии мы тоже не знаем, но для меня она всегда была Любовь Григорьевна, хотя, как мы понимаем, таких имен у евреев быть не могло. Любовь эта Григорьевна была очень красивой. И в нее без памяти влюбился тихий-тихий Лева-поляк. Он поглядывал томно на красивую дочку хозяина, но ничего себе такого, грешным делом, даже не думал: ей, еврейке полагалось выйти замуж за еврея. Такое было время.
Но эта моя бабушка была лихая — или шалавая, как тогда говорили — она в 16 лет сбежала из дому с каким-то не то уланом, не то гусаром. Где-то с ним скиталась. А потом он ее бросил, и она вернулась домой. К счастью, без ребенка. Но ситуация выходила такая, что теперь уже ни один приличный еврей на ней бы не женился. И тогда предприимчивый ее папа сказал тихому поляку Леве: «Знаешь чего? Женись на моей дочке». И Лева с радостью женился. Папа Любови Григорьевны дал им деньги и сказал: «Уезжайте отсюда куда-нибудь, где никто не знает истории вашего брака и вообще всего». И они уехали в Евпаторию. Это из-под Варшавы-то! Там родился уже мой папа.
Там родилась и я, потому что мама моя поехала рожать к родителям мужа. Так что, из своего детства я помню и тихого дедушку Лёву и бабушку Любовь Григорьевну, и красивые пляжи. И почему-то в воспоминаниях у меня все время лето. Хотя, понятно почему: меня, конечно, уже из Москвы отправляли к бабушке с дедушкой на море летом. Дедушка по-прежнему работал в типографии, но он уже умел набирать по-русски. Он ходил в парусиновых брюках и в кое-какой рубашечке. Кажется, и брюки, и рубашечка были у него в одном экземпляре. А на бабушке всегда была по последней моде шаль, платье и туфли невероятной красоты. Дедушка до последнего дня считал своим долгом одевать бабушку так, как она привыкла. Была она, помню, очень красивая. Уже когда даже старая — красивая, у нее была редкая-редкая проседь, но в основном волосы черные, она их убирала в большой пучок такой, который оттягивал назад голову. И получалось, будто она все время ходит, задрав нос.
Знаете, такие есть типы женщин? В общем, интересная была семья. Задним числом помню, что отец мой никогда домой не ездил, меня одну отправляли в Евпаторию на лето. Я долго помнила адрес, по которому мы жили: «Улица Декабристов, дом 25». Меня как-то пригласили крымские татары на мероприятия, которые были приурочены ко дню их высылки, 18-е мая, а я им говорю: «Я ведь помню свой адрес!»- «Хотите посмотреть?» — «Ну, давайте». Дали мне машину. Поехали мы на улицу Декабристов. Едем, едем, до 19-го дома доехали, а дальше все обрывается: построили стадион. Не знаю, расстроилась я или нет, не могу сказать. Просто такое вот свидетельство — время идет, все меняется.
— Вы страдаете от того, как сильно ускорилось время по сравнению с тем, в котором вам, скажем так, было привычно жить? Не раздражает ли вот это все: фейсбук, мобильный телефон, разрывающийся от разных неличных писем электронный ящик?
— Мне это все нравится очень, я так живу. И очень радостно всеми благами этой новой реальности пользуюсь. Сейчас, правда, стала быстро уставать, но уходить из этого цифрового мира не хочу. Мне нравится: и телевизор с интернетом, и телефон, и почта. Я люблю, когда все развивается, меняется, когда это осязаемо. Это ведь и есть жизнь, да?
Знаете, я сама не сидела, но у меня есть много друзей сидевших. И они говорят, что время, проведённое в лагере, — это остановившееся время. То есть, там, внутри оно для тебя, бывшего, как будто не идет. И это страшно очень. Человек выходит оттуда, допустим, через двадцать пять лет, седой, худой, без зубов — а он тот же, которого сажали: вошел в дыру времени и из нее вышел, а жизнь тут прошла без него как будто бы. У Буковского в книжке, — он очень талантливый человек — есть описание того, как в лагере литовцы, здоровые мужики, осуждённые юношами на двадцатилетние сроки, вдруг возятся между собой как мальчишки. И вот Буковский как раз задумывается об этом, остановившемся в лагере, времени.
Страшное дело.
Так что, когда время идет, когда что-то вокруг очевидно двигается, меняется, что-то приходится осваивать, даже пускай и теперь это уже не по уму — это скорее говорит о том, что жизнь есть! Жизнь — это лучше, чем пустота.